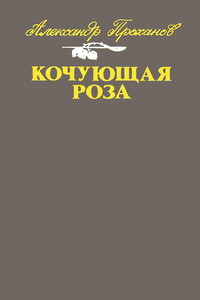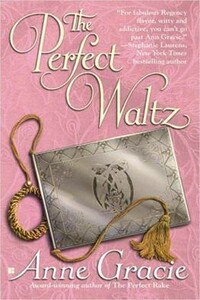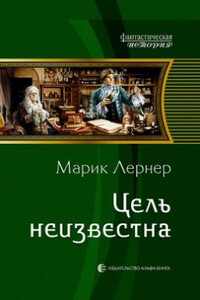Все как-то сразу узнали, что меня вызывают к директору.
Коридор в нашей музыкальной школе был длинный и полутемный. Неяркие лампочки горели здесь всегда — ни одного окна. И только двери по обе стороны.
Справа — классы, а слева зал, учительская, кабинет директора. А еще дальше, за поворотом, — уборная, где на дверях висят белые эмалевые квадратики с буквами «М» и «Ж».
Давно когда-то, в детстве, мы их постоянно перевешивали и тем самым создавали путаницу. Потом, наконец, завхоз догадался намертво прибить таблички.
Шел я медленно и уныло. Уборщица тетя Нюра поймала меня на месте преступления. Сейчас за моей спиной она приговаривала: «Иди, иди, голубчик!..» У нее в руках была длинная швабра, и я невольно поеживался.
Из дверей классов высовывались головы моих приятелей: «Сережка! Пивоваров! За что тебя, а?»
Я молчал.
Отвечала тетя Нюра:
— За дело! За порчу казенного имущества… Как же я не заметил ее? Вот лопух. Сидел за инструментом и разбирал этюды. Белая костяшка на одном клавише держалась неплотно. Дай, думаю, оторву ее совсем. Как раз такая мне нужна.
Я вынул перочинный ножик, просунул лезвие под костяшку, нажал. И тут — голос тети Нюры. Громкий. Даже струны у пианино задрожали…
Вот и вся история.
У директора Владимира Федоровича был насморк. Он почти не отнимал платочек от носа. Высокий, худой, совершенно лысый, директор, как всегда, смотрел на меня строго, слегка насмешливо.
— Ну? — спросил он. — Зачем ты это сделал?
Я мог бы ответить, что костяшка еле держалась и я ее снял, чтобы потом плотно приклеить. Но врать почему-то не хотелось. Я показал на лацкан кургузого пиджачка, на свой комсомольский значок.
— Хотел под него костяную подкладку сделать. Теперь все так делают…
— Тебя недавно в комсомол приняли? Поздравляю, — сказал Владимир Федорович. — Это, что же, твой первый комсомольский поступок?
Он подержал костяшку и махнул рукой тете Нюре: мол, идите, пожалуйста. Она ушла, угрожающе взмахнув напоследок шваброй.
— А ты знаешь, Пивоваров, сколько у нас в школе комсомольцев?.. Н-да, этого ты можешь и не знать. Ну, а сколько белых клавишей у рояля?
Я пожал плечами. Владимир Федорович искренне удивился:
— Ты же семь лет учишься, неужели не знаешь?
Он не кричал на меня, говорил спокойно, и поэтому я чуть обиженно сказал:
— Как так — не знаю? Знаю. Семь октав по семь тонов, сорок девять. Ну, еще там немножко. Полсотни, примерно.
— Вот и посчитай, дорогой. Если все так начнут, то что от инструмента останется? — Он отдал мне костяную пластинку. — Возьми, приклей на место, и аккуратно. Я проверю.