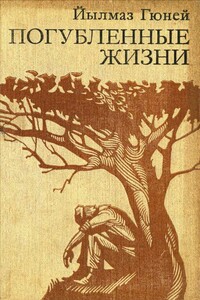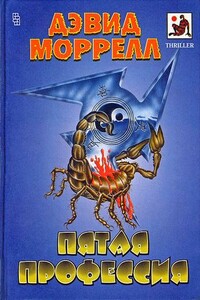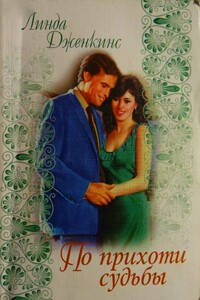В ту ночь проснулась вся Уруки — да и мудрено было не проснуться, когда рев борчалинца сотрясал небеса, а Георга, вместо того чтобы уняться, отчаянно вопил: «Пулю тебе в лоб… прямо между глаз пулю влеплю…»
Борчалинец был частым гостем Уруки, собственно даже больше чем гостем, — вот уж десять лет вся деревня только о его тайной любви с Анной и говорила. Правда, за все эти годы никто его ни разу не видел, не то что громкого слова — голоса его вообще не слыхал; но забыть об этом десятилетнем молчании он всех заставил сразу, в одну ночь. И все-таки приблизиться к дому вдовы никто не решился, и не только из страха перед басурманом, но и потому, что люди просто не знали, как им быть, что лучше — вмешиваться или по-прежнему оставаться в стороне. Ибо все эти годы и Анна, и борчалинец вели себя так, словно Уруки не существовала вообще или уж по крайней мере не имела ни глаз, ни ушей, — а ведь в деревне ничего скрыть нельзя, тут далее словечко, сказанное мужем жене в постели, сразу становится известным, так что и разобраться в делах одинокой вдовы людям никакого труда не составляло. Но если уж сама Анна деревню в эти дела не посвящала, то и деревня щадила ее, закрывала на них глаза. Да и по правде сказать, какое кому было дело до того, кто ходит к вдове по ночам? Никого, кроме нее самой, это, в конце концов, не порочило, и керосин она жгла не чужой, а свой — и не гаси лампы хоть до утра, ежели тебе охота! И в Уруки жили люди, и вдове с сиротой никто из них ни в хлебе, ни в заступничестве никогда не отказал бы; но никто никогда не позволил бы себе и приставать к ним с расспросами или упрекать их в чрезмерной скрытности — не вмешиваться было все-таки лучше, чем без приглашения совать нос в чужие дела. Если порой деревня просто так, чтобы почесать языком, подтрунивала над ночными делами Анны, то и в этом ничего дурного не было: ведь вдову, к тому же красивую и молодую, необычность ее судьбы и некий неписаный закон делают предметом всеобщего внимания и пересудов так же, как сумасшедшего или калеку. Женщин вдова интересовала не меньше, чем мужчин, но они, в отличие от мужчин, ей сочувствовали, ибо знали, что покорил ее борчалинец силой и угрозами. «Сына убил бы…»— проговорилась как-то Анна у родника; и этого было достаточно, чтоб женщины прониклись к ней состраданием. Так все и шло до тех пор, пока деревня не заметила дружбы Георги с майором и не догадалась о ее причинах, — но и тогда ни у кого не повернулся язык осудить майора, хоть приглянувшаяся ему женщина и принадлежала другому. Было, правда, немного странно, что мужчина его возраста (тогда майору было уже за сорок) все еще холост — приехал он, во всяком случае, без жены, и был ли женат когда-либо раньше, до того как поселился в Уруки, сельчанам выяснить не удалось. Но это отнюдь не означало, что он вообще не вправе глядеть на женщин, что от этого он отказался еще там, откуда прибыл в Уруки в своем офицерском мундире и с одним-единственным большим сундуком.