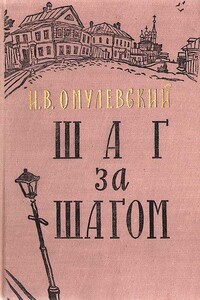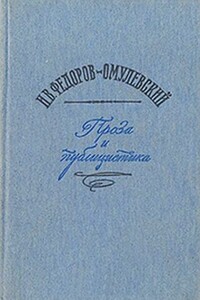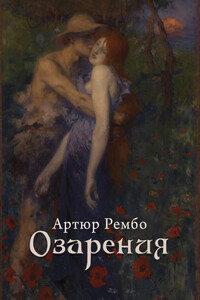1
ПОСЛЕ МНОГИХ ЛЕТ РАЗЛУКИ
Веселое да чистое такое всходило сегодня майское солнышко, точно оно умылось перед этим. Золотисто-розовые лучи его, казалось, собрали на этот раз всю свою раннюю теплоту, чтоб хорошенько пригреть землю, успевшую отвыкнуть за зиму от этой роскоши. Во влажном воздухе, насквозь пропитанном испарениями первой нежной растительности, вполне чувствовалась весна. Она наступала необыкновенно рано в нынешний год. Ушаковск, — один из лучших губернских городов Восточной Сибири, — весь был погружен еще в крепкий утренний сон. Только по главной улице его, широкой и прямой, резко раздавались, среди невозмутимой тишины, бодрые звуки пастушеского рожка, вызывавшего в поле городское стадо. По мере того как эти обычные звуки забирали все больше и больше силу, здесь и там со скрипом отворялись приворотные калитки, и запоздавшая прислуга, босиком и спросонок, лениво выгоняла на улицу хозяйских коров. Вытянув шеи и радостно мыча, они спешили присоединиться к ушедшим вперед товарищам.
Лизавета Михайловна Прозорова провела незаметно всю ночь напролет за чтением какой-то очень заинтересовавшей ее книжки и, вероятно, продолжала бы читать и еще, если б солнечный луч, ласковый как котенок, не успел изменнически проникнуть в ее спальню сквозь опущенную штору. При виде его она утомленно потянулась, взглянула мельком на часы, лежавшие возле, на ночном столике, заложила ленточкой недочитанную страницу и прошла через залу на балкон. Лизавета Михайловна так и не раздевалась с вечера.
«Как хорошо!» — подумала она вслух, вся обхваченная утренней свежестью, — и посмотрела, прищурившись, на солнце. Балкон был во втором этаже и выходил прямо на главную улицу, в конце которой стлалась теперь золотистая пыль, поднятая уходившим стадом. Вдали, над рекой, поднимался легонький, чуть заметный пар, а еще дальше — мягко выступали на горизонте волнообразные очертания гор в синевато-розовой дымке. Со всех концов города то и дело перекликались петухи, приветствуя доброе утро. Полюбовавшись вдоволь видом с балкона, Лизавета Михайловна села тут же на стул, прилегла головой на холодные перила и долго оставалась в таком положении, устремив бесцельно глаза на одну какую-то точку вдали.
О чем она думала в эти минуты? Да многое проходило теперь в ее душе. С какой-то болезненной раздражительностью старалась она уяснить себе, например, отчего это содержание только что читанной ею и, очевидно, хорошей книги являлось как бы уликой всего того, что она пережила и передумала, и в то же время стояло вразрез с этим пережитым и передуманным? Да еще, бог весть, вправе ли она — молодая, богатая, пользующаяся хорошим положением в обществе, — допытываться от жизни чего-то до такой степени темного, что она и сама не понимает еще хорошенько, чего именно, да, верно, и не поймет никогда? И будто жизнь должна непременно сложиться у нее иначе, чем сложилась у других, как, например, у ее матери, посвящавшей все свое время на заботы о хозяйстве, о детях? Нет, это все пустые капризы, — и ей, серьезной Лизавете Михайловне, матери семейства, просто не следовало бы читать подобных книжек; они только бесполезно раздражают ее мысли, не давая им никакого исхода, да отрывают ее от прямых обязанностей… Но неужели же, в самом деле, так-таки и должна прожить она, не изведав, не разрешив многого, что хотелось бы ей изведать и разрешить? Вот, например, не знала она никогда горячей, обхватывающей всю душу привязанности, кроме той, какою с избытком пользуются ее дорогие, славные детки. Но, может быть, оно и к лучшему? Может быть, эта иная, горячая любовь вытеснила бы их из ее сердца? Как! Вытеснить этих милых крошек из ее сердца? Да кому же она позволит это? Нет, нет, боже сохрани! — Ни за какую любовь в мире не принесет она никогда такой невозможной жертвы! И все-таки ей недостает чего-то. Со стыдом и болью в сердце должна она нередко признаваться самой себе, что этого «чего-то» недостает ей и тогда (даже и тогда!), когда вся она отдается горячим детским ласкам… И почему это всякий раз, как прочтет она какую-нибудь хорошую книжку, приходят к ней эти мучительные мысли? Что, если подобная книжка только ей, Лизавете Михайловне, кажется хорошей, а в сущности, она, быть может, и дурная, вредная книжка? Зачем же, в таком случае, отец ее, — этот честный, прямой и такой добрый старик, — берег подобные книги, как зеницу ока, — в своем незатейливом шкафике? Если он так дорожил этими книгами, что даже ей, избалованной его ласками, не всегда позволял играть ими, то разве могли они быть дурными? Лизавета Михайловна очень хорошо помнит, как он однажды строго пригрозил ей за то, что она вздумала потрепать которую-то из них без спроса. Через несколько минут он, правда, стал опять по-прежнему ласков, но и тут кротко заметил ей, что нехорошо так бесцеремонно обращаться с его «лучшими друзьями». Да, он употребил тогда именно это выражение. Как жаль только, что ей не вспомнится ни одного из тех оживленных разговоров, какие вел он, бывало, по поводу этих самых книжек, когда изредка навещал его какой-нибудь старый товарищ. «Ведь вот, кажется, и неглупа я, — тоскливо подумала Лизавета Михайловна, отстраняя ряд иных, набегавших в ее голову мыслей, — а одной мне ни за что не справиться с этими вопросами…»