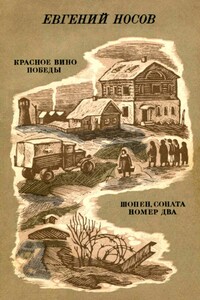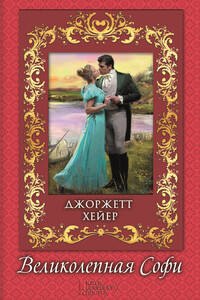Моросил дождик — мелкий, нудный, частый, холодный и — как это ни дико, ни странно в летнюю пору — колючий. Поля по обе стороны дороги на далеко, насколько хватало глаза — во весь простор, до синевших на горизонте, сквозь сетку дождя, недвижных лесов — были выжжены, и черно-желтая, взъерошенная недогоревшими стеблями ржи земля казалась Яну, угрюмо шагавшему на фланге своего отделения, мертвой и все же злой и жутко-угрозной. Еще дымились седым пеплом, как саваном обернутые, бревна какого-то строения у поваленного, тоже обугленного огнем столба. Склад? Дорожная сторожка? Харчевня? И самая дорога — широкая, прямая, мощеная — не ложилась покорно под ноги маршировавшей колонны, под копыта коней, под колеса автомобилей и повозок, но дыбилась грудами развороченных булыжников, засекала путь рвами и волчьими ямами, из которых кое-где торчали торчком борта и оси неосторожных — провалившихся, завалившихся — машин. И от вида этик обломков и всего этого разрушения становилось еще темней на душе, потому что боев в этой местности не было, войска этой дорогой не шли, и все, что видел глаз, было делом не военных, а мирных крестьянских рук.
Мирных!.. Ян тряхнул головой. Вот слово, которое звучит прямо-таки насмешкой в этой стране, где даже дождевая капель, еле заметными светлыми бусинками ложащаяся на плечи, на рукава, на походные вещевые мешки, колет кожу, как раскаленные стужей иглы. Дико и странно, но это так. Три месяца уже прошло, как рота Яна — 3-я рота батальона одного из чешских полков — переступила советскую границу, и ни одного дня не было, хоть чем-нибудь напоминающего о мирной жизни. Даже в самом глубоком тылу.
Тяжко живется. Тяжко дался и сегодняшний день. Переход был большой, и шли, как всегда в этой небывалой войне, форсированным маршем, пешком. Войсковое соединение, в которое входят чехи, — смешанное, в нем главным образом австрийцы и мадьяры, «чистопородных» немцев нет, а «неполноценных по крови» нацистский штаб не балует механизированным транспортом. Гитлер даже австрийских немцев называет «славянскими метисами», «сбродом», который надо раздавить; венгерцы для него — «конокрады», чехи — «насекомые», поляки — «клопы». Всем этим достаточно для передвижения собственных ног: беречь их нечего. Об этом нацисты говорят и пишут не скрывая, открыто, даже теперь, когда чехи и венгерцы умирают в одном ряду с ними, с «расой господ».
Не раз уже Ян до боли сжимал крепкие, тяжелые свои челюсти, когда приходилось идти, таща на спине тяжелый солдатский походный груз, с трудом выволакивая ноги из густой и вязкой проселочной грязи, а мимо катили грузовики, да еще грузовики чешской же работы, его родных чешских заводов. Брызги грязи, летевшие в лицо из-под колес, Ян принимал как плевки краснорожих, усмехающихся мотопехотинцев, удобно рассевшихся на лавочках автомашин. И сейчас, когда в обгон тянувшейся по грязи усталой пехоте опять пошли грузовики с эсэсовцами, Ян не без злорадства смотрел, как они буксуют, кренятся, стопорят на исковерканном, хватающем за колеса дорожном полотне, давая себя обогнать пешим «насекомым». Сегодня и этим баловням гитлеровским нелегко дается поездка!