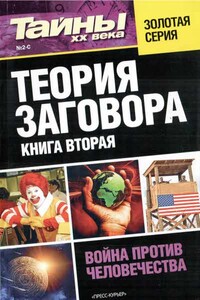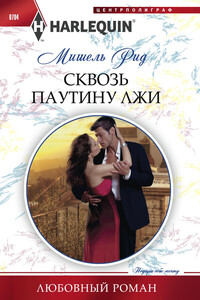— Посмотрите вверх.
За последние три месяца мои глаза проверяли множеством различных инструментов, оттягивали веки и корректировали лазером. На них воздействовали ярким светом и облучением, потоками воздуха и жидкостями. Их рассматривали, обсуждали, в них вторгались, приказывали закрывать и открывать. Они выдержали почти все, что только можно вынести. Поэтому, когда медсестра попросила меня посмотреть вверх, чтобы закапать лекарство, и предупредила, что будет немного щипать, я… ну, я уже не дергал веками и не жмурился. Ничего особенного.
Однажды летней ночью я почти ослеп. Лишь мастерство хирурга в офтальмологической больнице Мурфилдз, где я теперь находился в ожидании очередного осмотра, буквально спасло мне зрение. Тогда, после экстренной операции, проведенной в два часа ночи, мне сказали, что левый глаз вряд ли полностью восстановится. Но когда это все же произошло, я принял исцеление как первый знак того, что удача наконец повернулась ко мне лицом.
Второй знак — по крайней мере, так я думал в те пьянящие первые дни наших отношений — встреча с Чарли.
* * *
В свои тридцать я был самым молодым в холле больницы и единственным, кто оказался здесь без сопровождающего. Седой мужчина в углу сидел рядом с женой, которая читала ему выдержки из журнала, одного из тех желтых изданий, которые наполнены рассказами о неверных супругах, семейном насилии и о детях, умирающих от рака. Напротив меня три пожилые дамы жались в кучку под плакатом о глаукоме, неподалеку от них сидел индиец — я подумал, что молодая женщина с ним, наверное, дочь. Двое стариков в темных очках прошли мимо, и один из них отпустил шутку о слепом, ведущем слепых.
Мне некого было попросить пойти со мной. Я был фрилансером, так что не имел коллег. Сестра Тилли была моим единственным здравствующим родственником, если не считать тетю и дядю в Сассексе, которых я не видел уже много лет, а личной жизни у меня тоже не было. Полагаю, я мог бы обратиться за помощью к подруге Саше, но она была занята — ей пришлось бы брать выходной, а я не хотел причинять ей неудобства.
Трудно признаваться в этом даже самому себе, но я чувствовал если не тоску от одиночества, то, по крайней мере, усталость от душевной пустоты. Дни и недели, последовавшие за операцией, я сидел на диване, пытаясь не жалеть себя и не воображать, как хорошо было бы, если бы кто-то ухаживал за мной. Вот не разъехались бы мы с Харриет, то была бы у меня хоть соседка по квартире, а уж если бы родители были живы… Я презирал жалость к себе, но в те дни, когда мне приходилось спать сидя, а ориентация в пространстве была настолько нарушена, что я не мог свободно перемещаться по палате и тем более выйти на прогулку, мне необходим был рядом человек, вместе с которым я мог бы посмеяться, в сотый раз наткнувшись на журнальный столик.