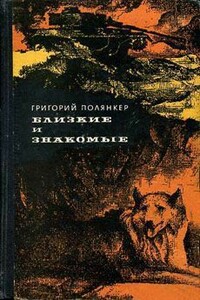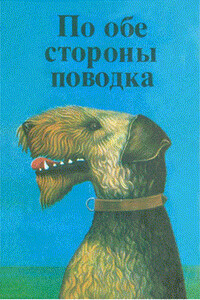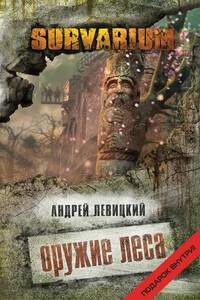Философская повесть
Сны. Свет и чернота – черно-светлые, грязно-звездные, огонь и пыль – разводы сияния.
На самом деле это снова были сны – ничего из ниоткуда, преображающееся отсутствие, замкнувшийся выход. Они вставали в нем очевидной неизбежностью, каждый раз усердно прирастая количеством, – он уставал увеличиваться от них. Они в очередной раз что-то предлагали – неожиданное то, к чему он не был готов, на что его могло не хватить. И при этом они, как всегда, не будоражили, не мешали, не имели к нему претензий.
Но среди прочих у него находились сны, от которых была боль. Они захватывали его, заселяли, как давние законные владельцы, и принимались по праву его поглощать. Где-то глубоко внутри него – с самого начала настроенные против – они категорически формировали новое содержание, плодили иную суть, пересоздавали ценности, из которых он состоял.
Пробуждаясь, выходя в явь, он забывал об этих снах, переставал знать, что они были. Но действительность, которую он обнаруживал, уже выглядела иначе – ее вновь приходилось обживать, из нее вырастали другие смыслы – скрытые, неясные, утяжелявшие ее.
Иногда, впадая в очередной сон, он перешагивал в предыдущий. И тогда – незаметно, на удивление самому себе – начинал жить с учетом опыта этого сна – прежней нереальной жизни. Так однажды он вернулся один в раскрытый космос. Вдруг почувствовал себя болтающимся в плотной черной пустоте – захваченным турбулентностью отвратительно разлившейся тишины, потерявшимся, одиноким, невозвратно далеким от тепла, человеческой мысли и всякого твердого вещества. Лишенный координат пространства и времени, выпавший из лона жизни, увязший в бесчеловечности – теперь и навсегда, – он тут же ощутил, как в нем цепко сидела смерть, неизвестно когда и откуда вошедшая в него. Он испытал территориальное могущество этого космоса, порывистого, негостеприимного, не желавшего делиться с ним пространством. Ему стало смертельно не хватать дополнительного объема – освоенного, приспособленного к его судьбе, но не выданного ему.
Он торопился быть против смерти, научиться сторониться, бояться ее, но не успевал: смерть уже вступила в него, заглотив все, что связывало с жизнью, что заставляло за нее держаться; смерть, опознанная слишком поздно, была уже не страшна.
Проходили промежутки, и – несколько снов спустя – космос снова настигал его, распухал, вспучивался в нем. Но теперь он был готов к нему, помнил его характер, повадки, умел его вытерпеть. На этот раз он обладал знанием, что через несколько единиц измерения все окружившее его перестанет быть. В чем заключались эти единицы и как преодолевать измеряемую ими протяженность, было непонятно, но почему-то считалось в порядке вещей – стандартно истинным. Иногда к нему прорывались свежие волны – накатные массы, заволакивавшие контуры навалившейся пустоты, – захлестные сгустки. Проходя сквозь него, они захватывали и уносили с собой мельчайшие его частицы – его становилось меньше. Но в удалении от него эти частицы продолжали жить – на них по-прежнему опиралось его разбросанное, рассыпавшееся в среде сознание.