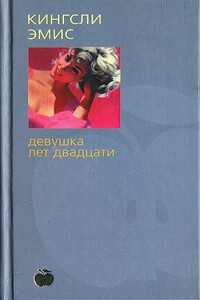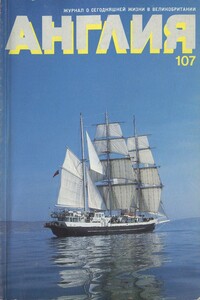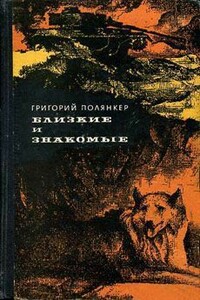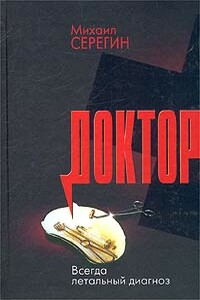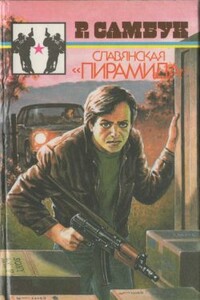Глава 1
Империалист, расист, фашист
– Неужто этот малый и впрямь так хорош, как вы его расписываете? – спросил Гарольд Мирз.
– Вроде да. Может, и лучше. В том смысле, что пока еще трудно сказать определенно. На этой стадии нелегко оценить, насколько он…
– Вы технику его имеете в виду?
– Не только, – сказал я. – Просто… Он соображает, что играет. Сами увидите, я не…
– Разве не все музыканты соображают?
– Как правило, нет, уверяю вас!
– На то они и музыканты! – внезапно и как бы в удивлении произнес Гарольд. – Он, кажется, из Восточной Германии?
– Совершенно верно.
– Там самый отсталый, продажный и деспотичный режим на планете. Разумеется, не считая Черной Африки.
– Несомненно. Что не помешало этому Колеру сделаться классным пианистом. Могло бы, но не помешало.
– Настоятельно напоминаю вам, я не без оговорок согласился на музыкальную колонку. Теперь на концерты никто не ходит, покупают пластинки. Все домоседами заделались. Такая вот теперь у нас публика. Здесь по крайней мере. В Манчестере. В Бирмингеме. В кои-то веки материал публикуем! Сколько можно твердить, у нас не лондонская, у нас общегосударственная газета. Он еврей?
Гарольд говорил с обычной размеренностью и обычным своим тоном, при этом его кургузые ручки (с кургузыми предплечьями при кургузых же плечиках) застыли ладошками вверх на письменном столе и слабый солнечный луч покойно мерцал на его практически лысом черепе. Обычна была и манера разговора: несколько напрягать внимание и память собеседника. Одна фраза в самом деле заставила-таки меня здорово напрячься. Я и не подозревал, что у Гарольда были сомнения, когда пару месяцев тому назад он взял меня в газету музыкальным критиком, точнее, репортером музыкальной жизни. Тогда он уверял, что подобное новшество он лично задумал как первый прорыв в кампании по всеобщему подъему культурного уровня журналистики, лично отвоевав свое детище в суровой борьбе как с собственным патроном, так и с редактором текущих новостей и даже с лифтером. Глядя Гарольду в глаза в его просторном и по-современному убогом кабинете, я честно ответил на его вопрос:
– Не знаю!
– Надо ли пропагандировать всякий сброд? Например, что там раздули из истории, помните, с боливийским ансамблем песни и танца? Понаписали, как на концерт ворвались хулиганы, как их арестовывала полиция и все такое прочее, а что все-таки они играли-то? Всякую заумь вроде Телемана, или Прокофьева, или кого там еще?
– Они и Бетховена играли. Я был у этих боливийцев на репетиции; и не думаю, чтоб они в самом деле…
– Не надо в критике перебарщивать с похвалой! – Лучистый взгляд карих глаз Гарольда упал на мою рукопись, лежавшую прямо перед ним, и на мгновение показалось, будто он погрузился в чтение. – Мы не должны мешать искусство с политикой, – почти не прерываясь, продолжал он. – Это