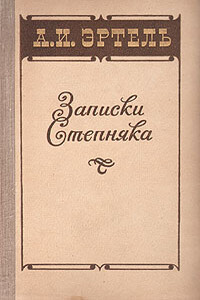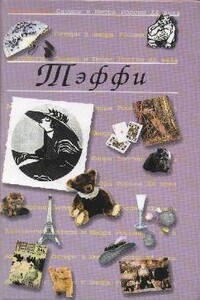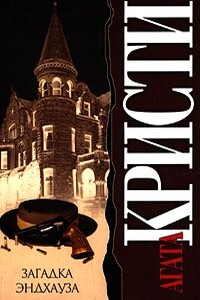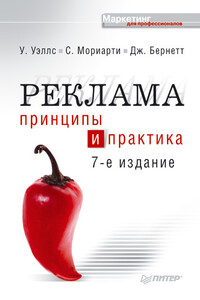Долго и настоятельно звал меня в гости один приятель мой. Хутор этого приятеля лежал вдалеке от железной дороги и вообще изображал собою самую вопиющую глушь, которая только возможна в Воронежской губернии. И это долго смущало меня. Я не мог вообразить себя без писем и газет, получаемых еженедельно, и, наконец, пятидесятиверстная дорога от ближайшей станции сама по себе была убийственна. Но пришел май, подошли некоторые обстоятельства угнетающего свойства, и непроходимая глушь стала манить меня к себе. Я написал приятелю послание, в котором просил выслать за мной лошадей, и, спустя неделю, тронулся в путь.
Станция, на которой приходилось слезать мне, стояла в лесу. Она уже давала предвкушение той тишины и того невозмутимого покоя, которые ожидали меня на захолустном хуторе моего приятеля: село от нее было не ближе доброго десятка верст. Все это я знал и потому, подъезжая к станции, даже ощутил некоторое замирание сердечное; я думал: прислали ли за мной лошадей?
Продребезжал колокольчик; вылезли вялые пассажиры и с скучающим видом обозрели окрестность; громко и отчетливо обругал машинист смазчика… Затем раздался еще звонок; пассажиры скрылись в вагоны; пронзительно прохрипел свисток кондуктора, и поезд загремел, медлительно скрываясь в лесу и вызывая в чаще задумчивых сосен протяжный отзвук… Я остался один на длинной платформе, опаленной солнцем. Сторож смотрел на меня с недоумением. Крошечный начальник станции обвел мою унылую фигуру уничтожающим взглядом и величественно удалился. Пространство возле станции было пусто.
– Не было лошадей с Ерзаева хутора? – смиренно спросил я сторожа.
– Это с какого Ерзаева – за гаями?
– За гаями.
– Нет, не было. Вот с Лутовинова было, и от Халютиной барыни были лошади, а чтоб от Ерзаева – нет, не было.
– Да ведь я письмо писал…
Я вошел в контору и спросил: «Давно ли Ерзаеву письмо отослано?» Господин с неизбежным цветным околышем на фуражке стоял около окна и давил мух. Мой вопрос застал его на самом интересном месте: крупная муха неосмотрительно попалась под его палец и отчаянно жужжала и билась там, звеня по стеклу.
– Вам чего? – важно промолвил он, едва поворачивая голову.
Я повторил вопрос.
– Какому такому Ерзаеву?
– Александру Федорычу.
Он промолчал.
Я подошел к столу и сел. Господин искоса посмотрел на меня и разжал палец. Муха радостно расправила крылья.
– Мы не обязаны сберегать письма, – строго сказал он, – у нас есть свои занятия.
Я ничего не ответил. Это, должно быть, умиротворило его.
– А ежели мы соблюдаем, так единственно в свободное от занятий время, – добавил он, смягчая голос, и, подошед к шкафу, спросил: – Вам – Ерзаеву?