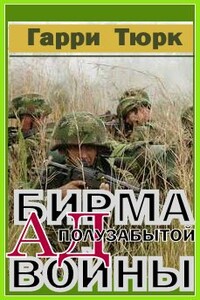МИША + АСЯ
Доставлять людям нечаянные радости —что может быть лучше! Этим тихим, согревающим душу восторгом, чем дальше за тридцать, все сильнее проникался Михаил Константинович. Поэтому нет ничего удивительного, что все знакомые звали его просто Миша. Жена (о ней еще речь впереди) звала его иногда, тет–а-тет, на французский манер— Мишель. Имя Мишель шло ему — был Миша, несмотря на наметившееся брюшко и невысокий рост, чем‑то похож на удалого гасконца, как мы себе его обычно представляем (но ничего общего с Боярским). В лице, видно, все дело —умное и дерзкое оно у Михаила Константиновича и очень подвижное (так и хочется сказать— обезьянье), увенчанное черной жесткой шевелюрой, к тому же слегка вьющейся. «Очаровательный уродец!..» — делились по секрету знавшие его женщины. И как всегда, когда дело касалось чужих мужчин, они оказывались правы, и многие из них наверняка не устояли бы перед его редкозубой улыбкой, на которую он был так щедр в разговоре с ними, если бы давным–давно (это по его выражению) не встретил он ту, единственную, которая уже в первый вечер назвала его Мишель. Она была симпатична, она была почти блондинка, и она была с ним одного роста и скоро ненавязчиво отказалась от высоких каблуков, она была непредсказуема и надежна одновременно, она была… и звали ее — Ася Зверева. А–ся Зве–ре-ва! Как ему теперь вспоминается, испытал он тогда от ее имени нечто схожее с эйфорией, и, когда два года назад они расписались, это он не захотел, чтобы она сменила фамилию. Он еще достаточно долго и много чего хотел, чтобы она «не», но постепенно забывал, что ли, об этом, и они все необратимее становились мужем и женой.
Ася до слез грезила собаками, она прочла о них уйму литературы, не раз прорывалась на собачьи выставки и остановила свой выбор на «чау–чау». Миша не возражал, и хотя ему очень хотелось верную немецкую овчарку, он усмирял свое желание и великодушно восхищался древней породой из Восточной Азии. Дело оставалось за малым — обрести собственное жилье, и покупай щенка. А пока, который год, они снимали квартиру (эта была уже четвертая) и второй год стояли в очереди на кооператив. Они, правда, могли бы жить в однокомнатке, с Асиной мамой, но, невзирая на все ее приглашения, на все ее «в тесноте, да не в обиде», на ее готовность поселиться на кухне, не пожелали единогласно.
Как‑то в один из зимних, промозглых вечеров, мечтая о пальмах, кокосах и горячих батареях, они условились завести волнистого попугайчика. Маленького, зеленого (классического!) и обязательно самца, чтоб говорить научился. Кличку придумали — Кук. «Хвать каменюку, и нету Кука…» Одним словом; кличка отменная, и, что немаловажно, Высоцкий (Ася Давно влюбилась в его песни), и существо живое, если собаку невозможно. Сами выбирали у знакомых. И сами же ошиблись. Через положенное время наросты на клюве попугайчика приобрели коричневую окраску, и Кук превратился в Куку — зеленую озорную попугайку. Пока происходила эта метаморфоза, Ася и Миша успели так привязаться к птице, что без сожаления распрощались с мечтами о говорящем попугае. В квартире теперь нередко раздавалось. «Не трожь ребенка! Не мучай ребенка! Дай ребенку поесть спокойно!» —и непоседливый, крылатый «ребенок» ел с ними из одной тарелки и выделывал все, что ему вздумается, вот разве книги ему категорически запрещалось «читать». Были известные издержки, но Ася ежедневно убирала за Кукой и не помышляла роптать, в отличие от мужа, громко переживавшего из‑за в очередной раз испачканной рубашки. Но бывало: он, оставаясь наедине с Кукой, вдруг не мог отказаться от желания поймать ее, бережно подержать в руках, а то и сунуть за пазуху и улыбаться, улыбаться, пока птаха, недовольно вереща, выбиралась на волю. Случайно или нет, но обычно после такого общения с Кукой он ощущал почти физическую потребность порадовать чем‑нибудь Асю.