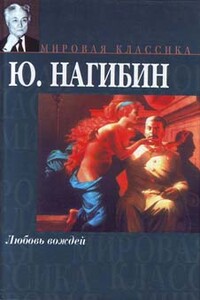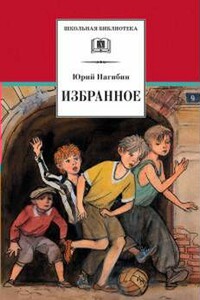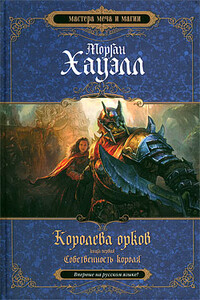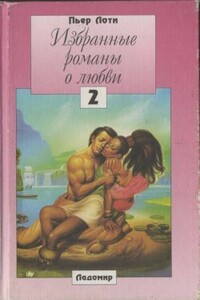Отец не дарил мне подарков; инженер-строитель, он постоянно находился в разъездах, пропадая иной раз на год, а то и больше. Правда, в день моего рождения считалось, что такой-то подарок делает мама, такой-то — дед и такой-то — отец. Но я понимал, что это условность: подарок отца был выбран и куплен мамой. Когда же мне исполнилось девять лет, отец расщедрился и подарил мне целый город, да какой — с дорогой через всю страну! Он вызвал нас с мамой на лето в Иркутск, где в ту пору работал.
Многое, случившееся позднее, давно позабылось, а Иркутск все светится в памяти особым светом. Иркутскую жизнь я помню изо дня в день, в ней не было ничего второстепенного, его и вообще не бывает на переломе жизни, пусть даже детской. А в Иркутске переломилось мое комнатное существование, я увидел, как огромен, многообразен, сложен мир, я узнал, что являюсь сыном великой страны.
В одной старой сказке комары тонкими голосами славословят свою долгую, почти бессмертную жизнь: они дважды видят день и дважды видят ночь. В моем комарином представлении я жил в необъятном мире: большая коммунальная квартира, два двора нашего дома, выходившего на три переулка — Армянский, Сверчков, Телеграфный; по углам дворов полого уходили в землю крыши винных подвалов; с утра до позднего вечера ухали бочки, скатываясь по деревянным каткам с телег; ругались возчики, высекали искру из булыжника массивные копыта битюгов. А неохватный простор Чистых прудов, а дача на станции Пушкино, за Акуловой горой, где мы с дедом жили каждое лето!
Поездка в Иркутск открыла мне комариную малость моего мирка. День сменялся ночью, ночь — днем, а за окном вагона разворачивались все новые дали, и не было им конца. Дорога отменила даже строгую очередность времен года, казавшуюся мне незыблемой. Из московского лета въехали мы в уральский снегопад. Притихший и подавленный, смотрел я в темное окошко, за которым стремительно и густо неслись снежинки. А затем были утренние поляны в сверкающем ровном снеге, затем без перехода, без весны, свежая, молодая листва деревьев; в огромных провалах между гор, глубоко внизу под поездом, волнующаяся голубовато-зеленая листва перелесков казалась рекой. Были и настоящие, великие, страшноватые в широте своей и затаенном спокойствии сибирские реки: Обь, Енисей, Иртыш. Проходя над ними, поезд затихал, реже и глуше колесный перестук, тишина в вагонах…
Иркутск был чудом, вернее, скопищем чудес. Ледяная Ангара, просматривающаяся на огромную глубину, до последнего камешка на дне, до тонюсенькой водоросли, неутомимо пускающей вверх жемчужные пузырики. Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что слева от пристани. Когда мы входили в узкую горловину между двумя островками, простор поворачивался вокруг своей оси, островки, будто играя в чехарду, перепрыгивали друг через дружку, весла выпадали из рук. Головокружение длилось с полминуты, а когда оно проходило, мы обнаруживали, что челнок наш отброшен назад на добрый десяток метров. Между островками был водоворот, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а затем швырял назад к пристани. Мы еще и еще повторяли нашу попытку, а затем в блаженном, дурманном изнеможении смотрели, как рыбаки, ловко и уверенно действуя шестом, спокойно проводили над водоворотом свои длинные, плоскодонные пироги.