
Сто страшных историй
- Автор: Генри Лайон Олди
- Жанры: Детективная фантастика / Фэнтези / Самиздат, сетевая литература / Альтернативная история
- Год: 2022
- Всего страниц: 211
- Статус: Полная версия
Закон будды Амиды гласит: убийца жертвует свое тело убитому, а сам спускается в ад. Торюмон Рэйден, самурай из службы Карпа-и-Дракона, расследует случаи насильственных смертей и чудесных воскрешений. Но люди, чья душа горит в огне страстей, порой утрачивают облик людей. Мертвые докучают живым, в горной глуши скрываются опасные существа, а на острове Девяти Смертей происходят события, требующие внимания всемогущей инспекции тайного надзора. Никого нельзя убивать.
Читать Сто страшных историй (Олди) полностью
Подобные книги

Городская фэнтези 2006

Настоящая фантастика 2012

Карп и дракон. Книга 1. Повести о карме

Воровской цикл

Дело одержимого убийцы

Выше головы!
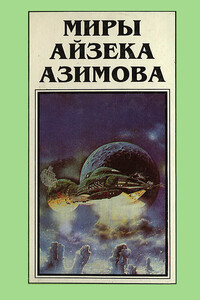
Миры Айзека Азимова. Книга 4
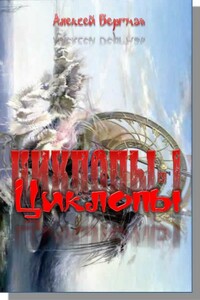
Циклопы

Возвращенец. «Элита пушечного мяса»

Стихотворения Юрия Живаго

Бешеный Лис

Позвольте представиться, Маргарита Васильевна — попаданка