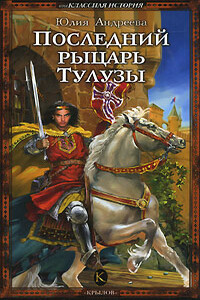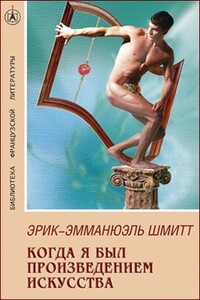Всему виной та уборка грандиозных масштабов, когда захотелось залезть на чердак старого-престарого дома и стряхнуть многовековые слои пыли с кучи коробок, сундучков и ящиков. Один из таких коробов развалился прямо у меня в руках. И высыпало из него энное количество связок пожелтевших бумаг, документов с печатями старинными и писем, часть из которых была написана на изысканном французском языке с завитушечками.
В этих письмах рассказывались странные вещи. Вещи, ну никак не вязавшиеся с официальными историческими фактами, подернутыми академической плесенью. В них женщина-изгнанница изливала душу, вторил ей муж ее. А еще упоминался странный и загадочный старец Федор Кузьмич. Тот самый, что взволновал когда-то великого искателя убегающей истины графа Льва Николаевича Толстого. Тот самый, о котором скажет в застенках двадцатого серпастого и молоткастого века духовидец Даниил Андреев: «С легким дыханием, едва касаясь земли тех миров, взошел он через слои Просветления в Небесную Россию…
…Архистратиг Небесного Кремля, он ныне еще там, в Святой России».
Эти письма последних русских романтиков волновали, предательски дрожала в зачерствевшей от бытовухи душе какая-то тоненькая струна. Не могла не дрожать она, потому что возрождалась память о стертом современным материализмом духовном подвиге далеких людей, испросивших сибирской каторгой прощение у Бога не только себе за романтические ошибки свои, но и всему русскому народу. Бежали взволнованные строчки старых писем, свидетельств вечной любви, и вставали перед глазами каре на замерзшей декабрьским утром Сенатской площади, казематы Петропавловки, слышался звон погребальный кандалов и вставала черная громадина тайги.
Слышался зов Сибири. Как зов памяти.
…Его придавило стволом упавшего дерева.
В среду, где-то часов в семь утра, ну, может, в половину восьмого. Дело-то, собственно говоря, вполне обыденное под Нерчинском, государевы людишки мрут на вырубках как мухи, дело заурядное, яйца выеденного не стоит, и чтобы описать его смерть, понадобилось всего три слова: «Вишь, Петр умер».
И больше ничего. Да и к чему. Каждый день люди умирают в тайге или, на худой конец, стенают от полученных увечий. Пора бы уже, пора научиться жить, искоса поглядывая на окружающих, сдерживая рвущееся наружу возмущение да вкалывая и дальше на благо государя императора и собственного отечества. Патриотизм российский куда важнее вечной печали, сильнее подлой, трусливой мыслишки, что, вот, мол, жаль как-никак человека-то.
Вот только лежит он сейчас между поваленных столетних сосен да кедров, бросили его там, и он лежит себе тихо да спокойно, словно уснул только что. Тоненькая струйка крови и струиться-то совсем перестала.