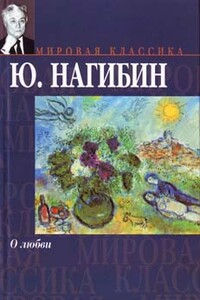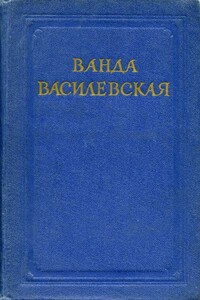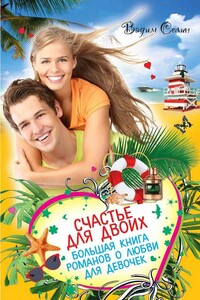— Ну, вот, Зазыба, веремейковцы твои наконец-то понаставили колышков на поле, а скоро, увидишь, и пропашут наново межи, и снова будет, как прежде — каждый своим домком заживет, всяк сам по себе. Одним словом, будто и не было ваших десяти лет счастливой и зажиточной жизни!…
Так говорил Зазыбе — чуть ли не в самое ухо — Браво-Животовский, идя рядом с ним к кринице, где издыхал в кровавой пене на выбитой луговой тропе подстреленный лось. Чубарь из своей засады правильно заметил тогда поверх пышного можжевельника: воистину эти двое не торопились увидеть, что это вдруг случилось посреди суходола; они не поддались повальному настроению веремейковцев, которые сразу же после Рахимового выстрела сыпанули из Поддубища вниз по склону; Браво-Животовский с Зазыбой шли, что называется, нога за ногу, издалека даже нетерпеливому Чубарю показалось — после того уже, как Браво-Животовский с Зазыбой свернули с гутянской дороги, — не нарочно ли они удлиняли себе путь, слишком старательно обходя те изрытые участки, где можно по неуклюжести либо споткнуться о сухую, источенную муравьями кочку, либо угодить ногой в заросшую полевой травой выбоину или след копыта. И если Зазыбова мешкотность Чубарю была известна, — в его неспешности была степенная основательность, которая, кстати, всегда почему-то злила Чубаря, но которая все-таки соответствовала и повседневному поведению того, и движениям, и, наконец, самое главное, всей Зазыбовой человеческой сути, — то Браво-Животовского видеть таким было непривычно и, наверное, прежде всего потому, что не было никакого резона в самом его нахождении рядом с Зазыбой, а тем более в обоюдности, которая будто бы уже налаживалась между ними; во всяком разе, в Чубаревой душе вид этой близости вдруг пробудил неприязнь, которая в свою очередь вызывала ревнивое и мстительное чувство.
— Известно, он и колхоз неровный был для всех, — продолжал Браво-Животовский, — как и в жизни что ни возьми: одному — война, другому — мать родна. Это когда только начинали дело, так во все горло орали: настает час всеобщего благоденствия в мужицком раю. Единственно — ломи, крестьянин! И крестьянин, поплакавши малость на своей полоске, с которой приходилось распрощаться, да и не малость, а, пожалуй, хорошенько поплакавши, сначала взялся было за колхозное дело усердно, да, поголодав кряду несколько годов, уразумел: нет, в этом содомском гнезде протянешь ноги, не иначе. Они и большевики твои, у кого мозги есть, потом спохватились. Не напрасно же вскорости, в тридцать пятом, ввели колхозный нэп. Нарезали приусадебные участки, коров, ярок и все такое прочее позволили держать, чего раньше не снилось. Это не важно, что послабление не называлось колхозным нэпом. Важна суть. А она была в том, что умные люди наконец скумекали — без частного хозяйства все равно не подняться после страшенного голода мужикам, а значит, не подняться и всей стране, поэтому, как и прежде, был введен этот колхозный нэп. Глядишь, мужики снова воспрянули духом немного. А потом опять у кого-то засвербело—как же, чтобы у мужика да кусок хлеба не только на сегодняшний, а и на завтрашний день был! Не помогли на этот раз и заступники. Потому что сами к тому времени уже соболей где-то пасли. И вот в тридцать девятом облагаются и сотки те приусадебные, и на коров налог вводится, и за поросенка надо платить государству: и колхозничкам начали выдавать квитки того же самого цвета, что и единоличникам. Может, мол, откажутся и от соток, и от коровы. Так нет, мужик готов уж был последние портки продать, чтобы заплатить, но не потерять собственного хозяйства, мужик хорошо помнил, каково было и в тридцать первом, и в тридцать втором, и в тридцать третьем, да, считай, и тридцать четвертый почти весь на мякине просидели.