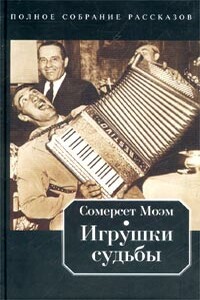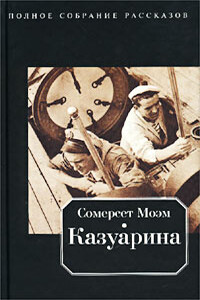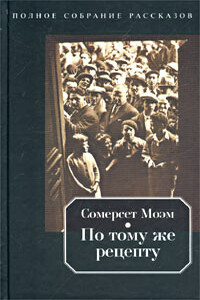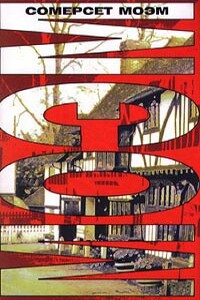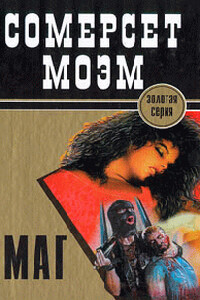Я не могу ручаться, что эта история целиком и полностью соответствует действительности, однако рассказал ее мне профессор французской литературы одного английского университета, а профессор этот — человек столь уважаемый, что, я полагаю, не будь она абсолютно правдивой, он не стал бы мне ее рассказывать. Этот профессор обычно привлекал внимание своих студентов к трем французским писателям, каждый из которых, по его твердому мнению, воплощает в себе одно из трех основных качеств, из коих слагается национальный характер француза. «Читая их книги, — говаривал профессор, — можно узнать о французском народе столько, что, будь моя воля, я бы не разрешил нашим правительственным чиновникам, которым предстоит иметь дела с Францией, занимать свои посты до тех пор, пока они не подвергнутся серьезному экзамену по творчеству этих писателей». Этими писателями были, во-первых, Рабле с его gauloiserie* или, как некоторые считают, даже сквернословием, Рабле, который любит называть вещи не то что своими именами, а кое-чем похуже; во-вторых, Лафонтен с его bonsens**, любящий резать правду-матку; и, в-третьих, Корнель с его panache. В словарях это слово обычно переводится как «султан», что означает пучок перьев на рыцарском шлеме, но в переносном смысле оно символизирует черту характера, которая объединяет в себе такие свойства человеческой натуры, как благородство и высокомерие, хвастовство и доблесть, тщеславие и гордость. Именно le panache побудило французского дворянина в Фонтенуа сказать офицерам короля Георга II: «Стреляйте первыми, господа!» Именно le panache во время битвы при Ватерлоо исторгло из непристойных уст Камбронна фразу: «Гвардия умирает, но не сдается». И именно le panache внушило нищему французскому поэту, получившему Нобелевскую премию, мысль сделать великолепный жест и отказаться от этой награды. Мой профессор был человеком незаурядным, а он считал, что история, которую я собираюсь изложить, высокопоучительна, ибо в ней отражены как в капле воды три вышеупомянутых основных свойства французского национального характера.
Я назвал мой рассказ «Явление и реальность» — это название книги, которую, на мой взгляд, можно считать самой значительной философской работой из всех, что моя страна (права она или нет) дала в девятнадцатом столетии. Книга эта несколько суховата, но все же читается с неослабевающим интересом. Написана она превосходным английским языком, полна тонкого юмора, и даже читатель, не обладающий специальными познаниями, не может, читая эту книгу, не испытать захватывающего ощущения ходьбы по воображаемому канату над метафизической пропастью, и он закрывает книгу, усвоив внушенную ему автором успокоительную мысль, что на свете ничто не имеет слишком уж большого значения. Разумеется, с моей стороны некрасиво использовать для своих целей заглавие столь прославленной книги, и мне не было бы никакого оправдания, не подходи это заглавие так удачно к моему рассказу. Хотя Лизетта была философом лишь в том смысле, в каком мы все философы, то есть мыслила о проблемах существования, но ее чувство реальности было столь развитым, а любовь к явлению, то есть видимости, столь непритворной, что она могла бы считать себя человеком, сумевшим примирить непримиримое. Другими словами — достигшим той цели, к которой стремились философы всех времен и народов.