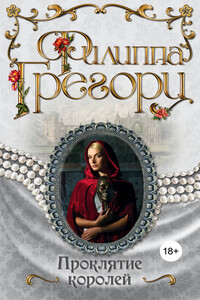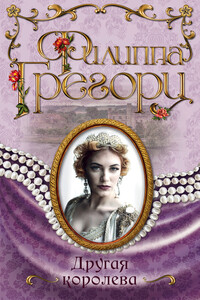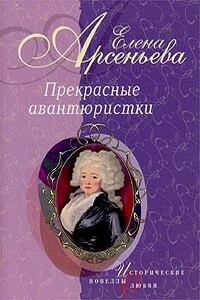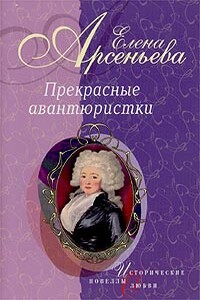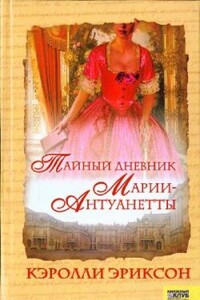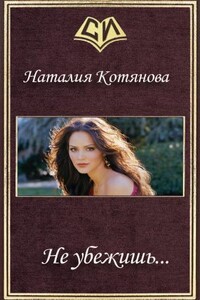После темноты внутренних помещений свет, исходящий от безоблачного неба, кажется ослепительным. Я невольно зажмуриваюсь и слышу рев множества голосов. Но это не моя армия зовет меня, странный шепот, перерастающий в рокот, — не голос моего атакующего войска, не мои воины грохочут мечами по щитам. И на ветру хлопают не мои знамена с вышитыми на них ангелами и лилиями, такие красивые на фоне небес, — увы, то на победоносном майском ветру шелестят знамена проклятых англичан. И рев их войска совсем не похож на то, как горланят гимны наши солдаты; скорее он напоминает вой толпы, жаждущей смерти. Моей смерти.
Передо мной возвышается огромная груда дров, к которой прислонена лестница с кое-как приколоченными грубыми перекладинами. Перешагнув тюремный порог, я выхожу на городскую площадь и направляюсь к месту собственной казни. Я тихо прошу: «Крест. Можно мне крест?» Потом требую чуть громче: «Крест! Дайте мне крест!» Какой-то незнакомец — мой враг, англичанин, один из тех, кого мы называем «проклятыми» из-за их бесконечного богохульства, — протягивает мне самодельное деревянное распятие, вырезанное ножом; мгновенно забыв о гордости, я выхватываю у него распятие и крепко сжимаю в руках. Но меня уже подталкивают к костру, тащат по лестнице наверх, мои ноги цепляются за неровные перекладины, и вот я стою на шатком настиле, прибитом прямо над грудой дров на высоте человеческого роста. Стражники грубо разворачивают меня, заводят мне руки за спину и привязывают к столбу.
Все происходит так медленно, что у меня возникает чувство, будто время остановилось и сейчас ко мне с небес спустятся ангелы. Случались ведь и куда более удивительные вещи. Разве ангелы не пришли за мной, когда я мирно пасла в поле овец? Разве не меня называли они по имени? Разве не я возглавила армию, освободившую Орлеан? Разве не мною был коронован дофин и обращены в бегство англичане? Неужели все это сделала я? Простая девушка из Домреми, внимавшая советам ангелов.
Растопку, разложенную по периметру гигантского костра, поджигают; дым вьется на ветру, разлетаясь клубами. Потом занимаются дрова; облако жара окутывает меня, я кашляю и моргаю, из глаз ручьем текут слезы. Огонь уже лижет мои босые ступни. Я невольно переступаю с ноги на ногу — это, конечно, глупо, но мне кажется, что так легче перенести страдания, — и все вглядываюсь, вглядываюсь сквозь дым в надежде: вдруг кто-то бросится ко мне с ведром воды, вдруг кто-то крикнет, что монарх, коронованный мною, запретил эту казнь; или же англичане, выкупившие меня у того солдата, решат, что я вовсе не нужна им, и раздумают сжигать меня; или же моя церковь признает меня хорошей девушкой, доброй христианкой, которая не повинна ни в чем, кроме страстного желания служить Господу и исполнить Его волю.