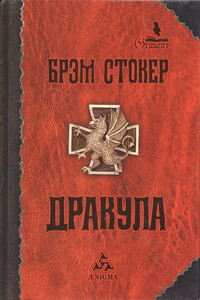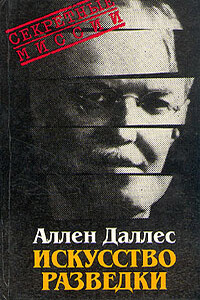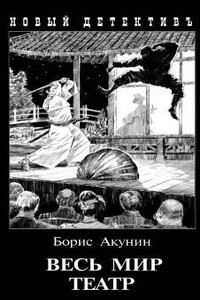Если, покидая Париж по Орлеанской дороге, за городской стеной вы свернёте направо, то окажетесь в местах диковатых и отнюдь не приветливых. Справа и слева, впереди и позади — со всех сторон там вздымаются громадные кучи пыльного хлама, накопившегося с течением времени.
У Парижа, помимо дневной, есть и ночная жизнь, и приезжий, входящий в отель на улице Риволи или Сен-Оноре поздним вечером или выходящий из него ранним утром, может, будучи неподалёку от Монружа, догадаться, если ещё не догадался, о назначении больших фургонов, напоминающих котлы на колёсах, которые попадаются ему на глаза, где бы не пролегал его путь.
Во всяком городе есть нечто постоянное и неотъемлемое, порождённое нуждами самого города; одно из наиболее заметных явлений Парижа — собиратели хлама. Ранним утром — а просыпается Париж очень рано — на большинстве улиц вы увидите стоящие возле каждого двора и переулка и между домами, как до сих пор заведено в некоторых американских городах и даже отдельных частях Нью-Йорка, массивные деревянные ящики, куда прислуга или квартиросъёмщики выбрасывают весь скопившийся за день мусор. У этих ящиков собираются и проходят, когда дело сделано, к новым пахотным полям и зелёным пастбищам вечно грязные, голодные мужчины и женщины, чьи орудия ремесла включают лишь переброшенную через плечо грубую суму или корзину да короткие грабли, которыми они переворачивают и щупают, чтобы изучить самым пристрастным образом, содержимое мусорных баков. С помощью тех же граблей они подцепляют и помещают в корзины всё, что находят, так же легко, как китаец управляется с палочками.
Париж — город средоточия масс, а средоточие и расслоение тесно связаны. В первые дни, когда средоточие только становится действительным фактом, герольдом ему служит расслоение. Всё схожее и подобное формирует единство, а из единства единств возникает один главный, всеобщий центр. Во все стороны устремляется несметное множество длинных щупалец, а в середине поднимается гигантская голова с развитым мозгом, зоркими глазами, чтобы видеть всё кругом, чуткими ушами, чтобы всё слышать — и жадной пастью, чтобы заглатывать.
Другие города похожи на всех птиц, зверей и рыб, чьи аппетиты и пищеварение совершенно нормальны. Один только Париж суть аналог и апофеоз осьминога. Дитя средоточия, доведённого до безумия, он — точная копия спрута; и нет в этом сходстве ничего более поразительного, чем полная идентичность пищеварительных систем.
Те вдумчивые туристы, кто, целиком и полностью препоручив себя господам Вкусу и Взгляду, осматривают Париж за три дня, часто не могут взять в толк, как это обед, который в Лондоне стоил бы порядка шести шиллингов, в кафе на площади Пале-Рояль подается за смешные три франка. А дивиться здесь вовсе нечему, если принять во внимание умозрительную особенность парижской жизни — расслоение, и признать факт, которому обязан своим рождением парижский chiffonier