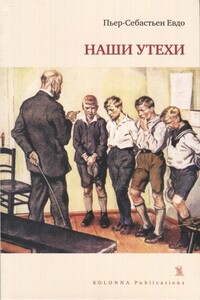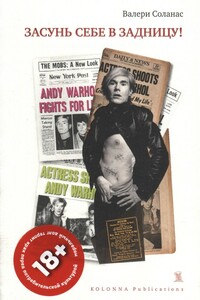Это происходило в тот неопределенный час, — хотя это был не час как таковой, а лишь краткое мгновение, которое, тем не менее, наполняло собою разум, будоражило его и грозило крахом, — это происходило в то тягостное время между пробуждением и сном, прямо перед падением в яму, когда больше не знаешь, ты ли это или складка на одеяле, или душа животного, или зародыш, или труп, или хрюканье свиньи, или вздох умирающего.
Сновидение тщетно прошло вдоль свода его судьбы, он пошевелил головой, и вся история сразу истаяла, он смог уловить лишь неясный ее обрывок. В этот смутный момент, когда он, весь мокрый, начал падать в водосточную яму и почти поверил, что превратился в душу некой свиньи, он вдруг очнулся в постели.
Не в силах уснуть, он поднялся, накинул рубашку, вдохнул ночной воздух, проверил, в кармане ли рогатка, — была темная, безлюдная ночь, — он шел один, ему стало жарко, и он снял рубашку и нес ее вначале на плече, будто флаг, продвигаясь вперед, с голым торсом, до тех пор, пока не показалась идущая навстречу тень в плаще, тогда он спросил себя, почему тот человек в столь поздний час и в такую жару носит плащ, распутник ли тот или чье-то доверенное лицо, и был ли плащ маскарадным костюмом или же униформой, и из стыдливости, которую не мог объяснить себе сам, снова надел рубашку и не решился обернуться на прохожего, однако успел заметить, что ресницы того были покрыты угольно-черной паклей или куделью, он дошагал до места, где главная городская дорога расширялась, прошел по площади, на которую возвращался каждый вечер, с пращой в кармане, чтобы подстрелить двух-трех скворцов; он прятался в кустах под деревьями, под самыми шумными купами, в которых слышался пронзительный птичий писк, вначале он с жадностью слушал, словно собираясь его впитать, пока не ощущал себя жертвой этого шума, тогда он принимался мстить, поднимал голову, натягивал резинку и стрелял в воздух, в пищащие заросли, ему нравилось смотреть на падающее тельце, которое, казалось, еще летит, чтобы подняться выше в последний раз, но, шелестя перьями, вдруг шлепается на землю; птиц со сломанным клювом или поврежденным камнями оперением, — ибо чучельнику такие не нравились, — он сразу давил, словно уничтожая сына, брата или обреченного друга, взывающего о смерти, — его подошвы по возвращении всегда были перепачканы кровью, — либо решительно кидал птицу в мусорный мешок, но ему нравилось прикасаться к еще трепетавшей птице, брать ее и сжимать в ладони до тех пор, пока не станет ощутим ток ее крови и отрывистые удары сердца, — он испытывал то же удовольствие, что и человек, наедающийся до отвала, — а потом из-за влаги и меняющейся температуры тельца у него возникало крайнее отвращение, очень скоро понуждавшее бросить мертвую птицу в ранец и поднять новый камень, заново скрутить резинку, которая вслед моментально ослабнет; порой, когда он, занимаясь этим отвратительным делом, был пьян, ему мерещилось, что у него в руках струны, и он может извлечь с их помощью новые непривычные звуки, тогда он высокомерно называл себя музыкантом; обычно он не сам набивал сумку и несся с ней к лавке чучельника, у него был подмастерье, забойщик, беспутный ребенок по имени Лапочка; анималист взвешивал птиц, словно засахаренные фрукты, очищал их пинцетами от лишнего сахара, слизи и оплачивал по весу, затем вставлял в птичьи животы лампочки, чтобы изготовить ярмарочные фонарики.