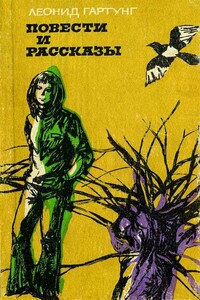Это она настояла, чтобы я не приглашал на вокзал никого из моих друзей.
— Мне хочется расстаться без свидетелей, — пояснила она, нервно прикусывая губы и хмурясь.
На этот раз я уступил ей. Последние дни Вера плохо владела собой: была со мной то необычно ласкова, то язвительна, то вдруг упрекала меня в невнимании к ней, то делала вид, что я ей безразличен. Я не знал, чего ждать от нее; может быть, в последний момент она с отчаянной решимостью скажет: «Я еду с тобой» или, напротив, даже не придет проводить меня. Но ни того, ни другого не случилось: на вокзал она приехала за десять минут до отхода поезда с букетом дорогих цветов, приветливо поклонилась моей маме, коротко и небрежно пожала руку мне. Будто провожала на день-два, не больше.
И вот перрон отжурчал голосами, поезд всосал пассажиров с их чемоданами, узлами, улыбками, слезами. Мы стоим втроем в руках у меня Верины цветы. Обе женщины стараются быть спокойными. Мама советует:
— Цыпленка съешь сразу, может испортиться…
— Цыпленка? Какого?.. А, хорошо.
Вера рассказывает что-то ненужное. Я не слушаю ее.
Последние минуты… Мама обнимает, целует в щеку, отстраняет. Всматривается в мое лицо напряженным; запоминающим взглядом.
— Ну, сынок, будь счастлив.
Она — как всегда. Только вот этот взгляд… Мама произносит тактично:
— Я пойду.
Считает, что нам с Верой надо поговорить наедине. Я смотрю ей вслед. Она уходит неторопливой, сдержанной походкой человека, который привык внимательно следить за собой. Настоящая педагогическая походка.
— Значит, едешь? — спрашивает Вера.
В голосе ее звучит жалость, словно я болен тяжелой, неизлечимой болезнью.
— Неужели ты не понимаешь? Твоя жертва абсолютно никому не нужна. Проработал бы лаборантом год-другой… — Она многозначительно понижает голос. — Может быть, представилась бы какая-нибудь возможность. Важно зацепиться за институт. Профессор Смородинов…
Я беру ее руку — прохладную, узкую, бессильную.
— Оставим это.
Вера высвобождает свои пальцы из моих.
— А ты? — спрашиваю я.
— Не знаю… Ничего не знаю. Может быть, приеду. — Она умолкает, затем еще раз говорит: — Может быть.
По глазам ее, печальным и жалким, я догадываюсь, что она думает о своем муже — доценте Нечинском.
— Граждане пассажиры! — важно возвещает проводник. — Отправление через две минуты.
Мне хочется обнять Веру, утешить, сказать те ласковые, хотя и бесполезные слова, которые говорят при разлуке.
— Иди, иди, — торопит Вера.
Она боится, что я поцелую ее при людях. Минутой позже я вижу ее из окна вагона. Она стоит, освещенная солнцем, тонкая, худощавая, без шляпы. Я пытаюсь открыть окно, чтобы подозвать ее, сказать еще что-то. Но поезд тронулся. Вера вздрогнула, пошла рядом с вагоном, отыскивая и не находя меня глазами, остановилась, заплакала. Такой и запомнилась она мне — стоящей среди оживленной толпы, с руками, поднятыми к лицу, как будто она защищалась от удара.