Вячеслав Рыбаков
А ты где был в семнадцатом году?
Когда с гор сходит лавина, глупо и бессмысленно уговаривать одну снежинку подвинуться влево или вправо, а другую — повернуть назад, тогда, дескать, людей погибнет меньше.
Когда на городскую набережную накатывает цунами, нелепо тужиться поделить вставшую на дыбы бездну на капли, а потом ещё и умничать: мол, эта капля права, а эта виновата.
Когда почва вдруг ушла из-под ног, когда привычный мир непоправимо взорван землетрясением, и дома, бывшие такими надёжными и родными, рассыпаются в пыль, а маленькие тела детей оказываются столь же беззащитными и хрупкими, как их целлулоидные куклы, поздно кричать: ворюги бетон разбодяжили!
Если бы я и впрямь мог менять историю семнадцатого года, первым делом я отправился бы в золотой век Екатерины к Радищеву.
Понимаю, сказал бы я, душа твоя страданиями человечества уязвленна стала. Моя тоже. Но ужель недостало в Отечестве нашем уродств, злодейств, бед и неурядиц, чтобы их ещё и выдумывать? Отчего Прямовзора твоя так пристрастно клевещет? Врать во имя истины, марать ради чистоты, творить несправедливость, взалкав справедливости — разве ж не оставил тебе Фатум иных орудий вразумления земных правителей? Будет, сказал бы я, в грядущей России замечательный поэт, он напишет: «Зло во имя добра! Кто придумал нелепость такую?» А ведь это, получается, не только о строителях коммунизма, но и о тебе. Ты именно так хочешь? Не лучше ль написать всё, как есть, о тех гнусностях, коим сам ты был свидетелем, и не выдавать сплетни интриганов за конструктивную критику, не придавать написанным с чужих слов поэзам и метафорам характера прямого политического доноса? Г осударыня-то матушка, чай, и сама не раз — в меру возможностей и способностей своих, разумеется, да кто ж живёт иначе? — давала окорот тем, кто слишком уж не ведал удержу в лести и кривде; вот хоть Гаврилу Романыча спроси. Тоже ведь синяков набилв своём стремлении к совершенству, тоже не раз стенал оттого, что «Поймали птичку голосисту»; но невозможного ни от государыни, ни от людей вообще — не требовал. Не пенял им бесперечь за то лишь, что они — не ангелы. И, между прочим, будучи в отставке, сделал столько для русской культуры, сколько ни на какой должности не сумел бы; и, кстати, Пушкина благословил...
Может, ежели б Александр Николаевич меня послушался, то и не произнесла бы потом императрица тех знаковых слов, под сенью коих так и покатила дальше история государства Российского: автор — бунтовщик хуже Пугачёва?
Наведался бы я к декабристам на какое-нибудь из их якобы тайных собраний. Сказал бы попросту: чем плотоядно толковать о необходимости цареубийства и в бесконечных спорах смаковать подробности сего благодетельного деяния, потому как без оного никакой свободе воссиять не можно, лучше бы самим, не дожидаясь ни вышних рескриптов, ни кровавой мясорубки, сговорившись о дне и часе точнёхонько, всем вам единовременно дать вольную своим крестьянам? На площадь-то выйти смеешь, понятно; смеешь и нечастных солдатиков под картечь подставить, дело привычное, барское; и ни в чём не повинного Милорадовича застрелить исподтишка тоже — чем не подвиг; а вот смеешь ли свершить всею своей вольнолюбивой братией и впрямь плодотворный бескровный согласованный поступок? И ежели нагрянут потом жандармы и скажут: сие, ваше сиятельство, не по закону — вот тут-то и ответить с превосходством: законы совести превыше законов государевых. Ей-ей, было б куда как уместно!


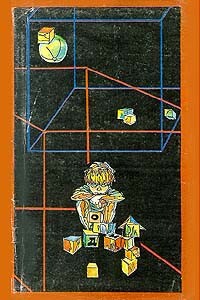
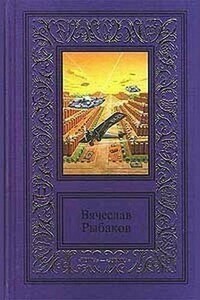
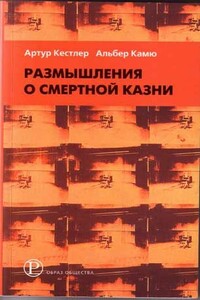



![По остывшим следам [Записки следователя Плетнева] - Владимир Михайлович Плотников](/uploads/books/images/e3/e3b5e4d50b751538cd85e8943c8e2f7534ec4099.jpg)