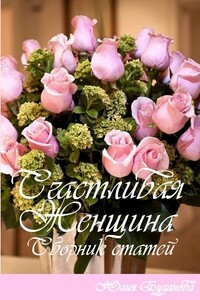I
Пасха в том восемнадцатом выпала такая поздняя, что многие не дождались Светлого Воскресенья, а уцелевшие теряли надежды на Спасителя, медлившего с приходом на эту погрязшую в крови и грехе землю. Но сразу наступило лето, а с ним что-то затеплилось в измученных сердцах. В парке и на бульваре, под старыми липами и тополями появились робкие гулящие: переодетые офицеры, узнаваемые по пиджакам с чужого плеча и выправке, новые большевистские начальники в помятых гимнастерках и армейских сапогах, не то угрожавшим, не то испуганным выражением на лицах; местные жители, радующиеся солнцу и тишине, покорно ожидающие новых обысков, арестов, расстрелов. Только не знали, кто именно будет обыскивать, арестовывать и расстреливать; офицеры Добровольческой армии, воюющей где-то за Екатеринодаром, или матросы в белой летней форме, бесчинствующие в Ставрополе и, по слухам, собирающиеся нагрянуть в Кисловодск.
Он не выдерживал добровольного заточения в тайной квартире, выходил прогуляться и, как ни старался, каких усилий ни прилагал, чтобы выглядеть обычным небритым стариком в заношенной куртке мастерового, почти каждый раз его кто-то узнавал. Одна из первых встреч хоть и оказалась безопасной, но была совершенно ненужной, нелепой, возвратив его в бесшабашное юношеское прошлое: в парке подошел один из тех давно забытых, с кем когда-то, будучи семнадцатилетним мальчишкой, поступал в Николаевское кавалерийское училище. Тогда Мишка Стахеев, остановившийся перед ним интеллигент в светлом костюме, в очках, еще не носил очки, но при нормальном росте и сложении выглядел маменькиным сынком, робким и хилым.
II
В переменчивое лето девятьсот пятого Миша Стахеев, перечитав сохраняемые отцом-литератором подшивки газет и специальных приложений, заполненных донесениями с полей Русско-японской войны, твердо решил стать офицером-кавалеристом, тем более что он с детства хорошо ездил верхом, предаваясь этому занятию летом на даче в Малаховке, тем более что он писал стихи и перечитал о войнах Наполеона все, что нашел.
Отец к этому решению сына отнесся критически, но покорно внес так называемый реверс — 600 рублей на покупку в будущем лошади, и отвез Мишу в Петербург, в училище.
Робко Миша вошел в зал, где шумели юнкера и бродили еще не освоившиеся и не переодетые в форму новички. К нему подошли трое старших юнкеров — всем не меньше чем лет по двадцать. Они сразу обозвали его «сугубым», «хвостатым», «пернатым», употребляли и еще какие-то оскорбительные прозвища. Самый длинный с гнусно издевательским выражением на маленьком лице спросил: