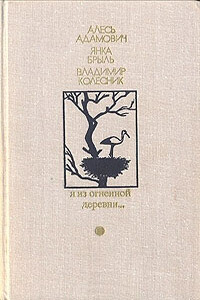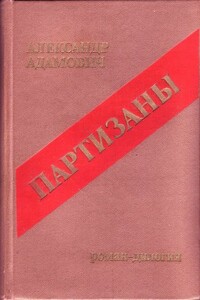Алесь АДАМОВИЧ
ИВАН МЕЛЕЖ
Удивительное произошло с белорусской прозой в конце 50-х и в 60-х годах. Самая что ни на есть традиционность зазвучала вдруг новаторски. Стали появляться романы и повести очень традиционные по материалу и стилистике («Сноха» и другие повести А. Кулаковского, «Застенок Малиновка» А. Чернышевича, «На пороге будущего» и «Городок Устронь» М. Лобана, «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» И. Мележа), которые, будучи возвращением к Коласу и Чорному, к Горецкому и Гартному, были в то же время и тем самым движением вперед, обновлением. Так они воспринимались (рядом и наряду с другими формами обновления, проявившимися в лирической и философичной прозе Я. Брыля, М. Стрельцова, И. Чигринова, романтически окрашенной — И. Шамякина и И. Науменко, морально напряженной — В. Быкова).
Что же произошло с традиционностью в нашей прозе, отчего она прозвучала столь новаторски в названных социально-бытовых и историко-бытовых романах Мележа, Кулаковского, Лобана, Чернышевича, в рассказах и очерках В. Адамчика, В. Полторан и др.?
Почему возвращение было, оказалось одновременно и тем самым движением вперед?
Да потому, что это было возвращением — широким фронтом — к самой сути литературы как искусства, и именно реалистической сути.
Нет, и в конце 40-х и начале 50-х годов появлялись произведения, которые заслуживали того, чтобы называться искусством, но при этом широко разлилась иллюстративность, «придуманность», «незаземленность» в литературе.
Казалось бы, белорусскую литературу не поразить ни погружением в быт, в повседневность, ни глушью и деревенскими глубинами Белоруссии, ни «переполохом» на крестьянских нивах и межах в годы подготовки и свершения коллективизации. Все это вроде бы уже было, и не вроде, а всерьез, глубоко, правдиво [1].
Не ново для белорусской литературы и это — масштабно-исторический взгляд на белоруса, художественно включаемого в жизнь большого мира, «цэлага свету», человечества и открываемого миру во всей определенности, густоте, полноте бытовых, психологических народных и национальных красок. И это было! [2] И не только в прозе, но и в поэтическом белорусском эпосе — Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича [3].
Но в том-то и дело, что русло литературной реки может терять достигнутую широту и глубину.
И это случилось. В произведениях вроде было все: «простые люди», село, город, человеческий труд и даже трудности, заботы, даже любовь и смерть. Но все — на ином, на совершенно ином эстетическом и идейном уровне. И на ином уровне нравственном.
Мы уже говорили о той очевидности, что после Толстого и Достоевского в мировой литературе, а в советской литературе (в том числе белорусской) после Горького, Шолохова, Твардовского, Купалы, Коласа, Чорного закрепилась своя мера правды, народности, гуманистичности, нравственно-эстетическая мера знания жизни, озабоченности «темой» и «проблемой», мера и степень «обязательности» произведения (в толстовском смысле: не пиши, если это не мучит тебя, «если можешь не писать!»).