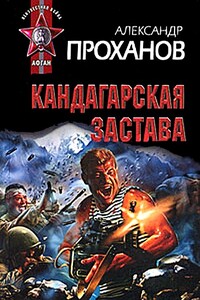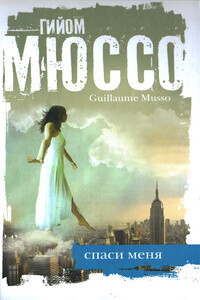Еще несколько таких пробуждений здесь, в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-чадные окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом. Поднимаются на окнах циновки, и видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваясь к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно с мембранным металлическим эхом, ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще — и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Лужа на тротуаре липко желтеет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И на грязном балконе напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнущий женский платок.
Еще несколько таких пробуждений, и он вместе с женой, слава богу, оставит этот номер в отеле, напоминающий походный бивак: москитные сетки, фотокамера, фляга, обшарпанный полевой бинокль, оставит корреспондентство, Пномпень и вернется в Москву, в свой любимый ухоженный дом с видом на Яузу, на хрупкую лазоревую колокольню, к любимым занятиям, к работе над докторской диссертацией, прерванной три года назад, когда его, востоковеда, знающего вьетнамский и кхмерский, выступавшего в периодической прессе с анализом индокитайских проблем, пригласили в газету, предложили корпункт в Пномпене, еще разгромленном, умертвленном, недавно освобожденном от полпотовских банд. И он, работавший некогда в прессе, дороживший памятью о своих молодых стремительных рейдах на Дальний Восток, в Ханой, в джунгли на тропу Хо Ши Мина, искусился этой возможностью, бесценной для любого ученого, оказаться в самом центре, ядре исследуемых проблем. Принял предложение газеты, приехал работать в Пномпень.
Кириллов стоял под душем, разбивая о плечи вечно теплую, не несущую свежести воду, смывая ночную испарину. Смотрел сквозь приоткрытую дверь на жену, расставлявшую по столу чашки, вазочку с вареньем, галеты. Ее рукодельный сарафан из цветастой таиландской ткани открывал смуглые полные плечи с глянцевито-влажным отливом. Черно-стеклянные, как у кампучиек, волосы раздувались от крутящегося в потолке вентилятора, и она, раздражаясь, отгоняла их от лица быстрыми взмахами. Ее круглое лицо казалось рассеянным, и на нем светилась радостная растерянность и забота, появившаяся в последние перед сборами дни. Она отходила от столика и поспешно, с ножами и ложками, возвращалась к нему, стараясь попасть под пропеллер, спасаясь от горячего влажного воздуха, тампоном стоящего в номере, не обновляемого сквозь открытый балкон. Там, среди ровного потного жара, гремела, дребезжала толпа.