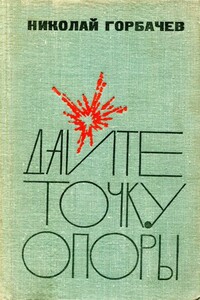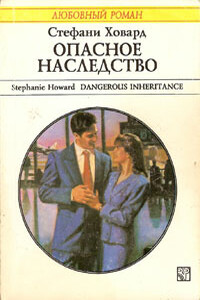Янов стоял завороженный, и это чувство всякий раз, когда приезжал из Москвы сюда, на полигон, захватывало его с одинаковой силой, словно все испытывал впервые, сталкивался с первозданной красотой один-единственный раз и в жизни ничего никогда похожего не было и не будет…
Огненный шар вдали только-только оторвался от изогнутой в четкую дугу линии горизонта — тут, в степи, на бескрайнем ее лежбище, и можно понять, что земля кругла и шар солнца не шар, а, скорее, медно-красный надраенный таз. И воздух лишь в эти часы стеклянный, хрустальной чистоты, будто звенят невидимые бесчисленные колокольчики и звон их сливается в одну незамысловатую, но вместе и возвышенную мелодию, от которой все внутри отзывается звоном.
Он любил степную беспредельность, особенно в ранний час тишины, покоя, еще полусонной дремоты. Не случайно в это утро ушел не в густотравную, цветущую пойму реки, начинавшуюся сразу за обрывистым берегом позади финских под красной крышей домиков — гостиниц для приезжего высокого начальства. И дело не в крутом береге — полигонное начальство позаботилось: в крутояре пробиты удобные пологие сходы, — пожалуйста, иди к воде, к песчаной отмели. Но он ушел в степь, перерезав по краю еще сонный, в лесах стройки Кара-Суй, и тут-то замер, пораженный.
Какая тишина! Какой покой! Он на минуту забылся — почему вообще здесь, в Кара-Суе, а не в Москве? И в забытьи, в завороженности ловил с улыбкой и дыхание свежего, еще прохладного воздуха и словно бы ощущал физически невидимую тягу скудной природы к солнцу, к новому дню: ему казалось, что он видел, как поднимались от земли пупырчато-острые колючки верблюжьей травы, как, шевелясь, расправлялись проволочно-спутанные клубки перекати-поля…
Все это он чувствовал. Пусть и не был настроен для сантиментов да и ушел из домика, просто чтоб разогнать тяжесть бессонницы и вот эту нудную, тягучую боль под сердцем. Впрочем, она не отступала. Наоборот, он, верно, переборщил с таким дальним путешествием: пройдет всего час, взмутится воздух, нальется сухой каленостью, как в бане «по-черному», — обратный путь будет труднее. И, мысленно возвращаясь к тому, что беспокоило его, ввергло в бессонницу, подумал: «Да, верно, решение комиссии ответственно!..» Но тут же, озлясь и словно вступая в спор с собственным внутренним голосом — он-то и точил, будто червь, всю ночь, — воскликнул:
— Что ж, и твоя тут роль! Но не по власти — маршал, председатель государственной комиссии, — а по праву совести, памяти о Сталинградской битве, всей войны. По праву памяти о тех убитых в яру, той девочки в старушечьем полушалке…