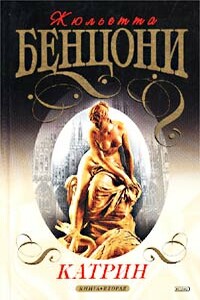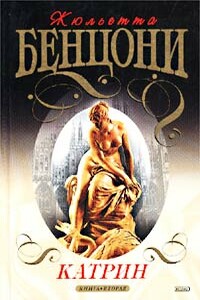Голос Мэри осекся; Имоджин отвернулась от слабого огня и подняла брови.
– Миледи, дальше в письме вашего брата идут вещи, непригодные для слуха, – медленно сказала Мэри, сворачивая драгоценный пергамент.
– О, Мэри, не стоит об этом беспокоиться. Когда Роджер приезжает сюда, он только и говорит веши, непригодные для слуха. Вряд ли в этом письме есть что-то такое, чего я не слышала.
– Ну, я никогда не произносила такие гадости и не собираюсь начинать.
Имоджин постаралась улыбнуться и снова отвернулась к камину в надежде скрыть подступившую панику.
Роджер начал последнюю игру. Она всегда знала, что этот день придет. На том клочке пергамента, который Мэри отказалась прочесть, он извещает, что началась настоящая война.
– Сожги его, Мэри, – буркнула Имоджин. Обостренное обоняние уловило едкий запах дыма, и она слегка вздрогнула.
– Все не так уж плохо, – приободрила ее Мэри. – Во всяком случае, вы услышали интересные мысли о своем женихе. Ваш брат весьма язвительно высказался на тот счет, что этот, как его… Роберт Боумонт теряет терпение. Кажется, он настроен объявить вас своей женой уже на этой неделе; лично я думаю, что это говорит о похвальном рвении.
– Сомневаюсь, что он помчится в дальний путь ради того, чтобы сделать своей женой печально известную леди Калеку, – сухо сказала Имоджин.
От смущения у Мэри сел голос.
– Я не знала, что вы слышали это прозвище.
Имоджин улыбнулась:
– Мэри, я слепая, а не глухая.
Мэри помолчала, потом бодро сказала:
– И к тому же вы не калека.
– Спасибо за такие милые слова, – Имоджин со вздохом покачала головой. – Но ты, кажется, забываешь, что Роберт Боумонт спешит сюда, чтобы получить землю, а не кикимору, укрывшуюся в главном доме имения.
Имоджин встала и осторожно обошла комнату – двадцать один шаг по одной стороне, семнадцать по другой. Это ее спальня и весь ее мир. Иногда она чувствовала, как давят стены, душит темнота, в которой она находится вот уже пять лет. Монотонность бегущих дней пожирала, однообразие и изоляция грозили сгубить.
Если бы не присутствие верной Мэри, ее давно бы не было в живых.
Имоджин не знала, по какому капризу Роджер оставил ей Мэри после того, как отобрал все, чем она дорожила, и все же испытывала жалкую признательность за это малое проявление доброты.
Она проглотила ком в горле и подавила чувство вины, которое возникало всякий раз, когда она признавалась себе, что выступает соучастницей Роджера, держа в этом невольном заточении пожилую служанку.
Мэри переносила изгнание с восхитительной стойкостью, но это не умаляло тяжесть стыда, поглощавшего Имоджин. Смирение Мэри делало груз еще тяжелее.