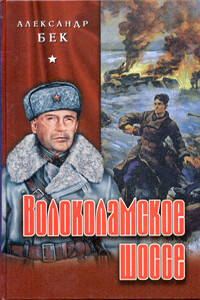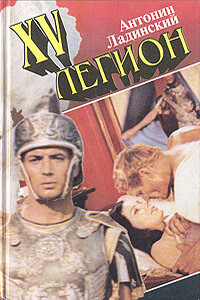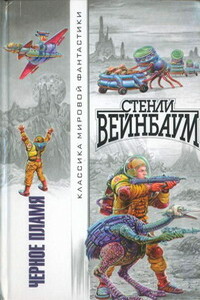Произведя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то счастливо найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил. Однако поддерживаю решимость достойными примерами.
Вот Горький. Высоченный, сутулый, худой — сквозь темную ткань пиджака заметны выступы лопаток, шея просечена извивами крупных морщин, — он шагает по настилу сцены к кафедре в зале Московского комитета партии. Это торжественный вечер в честь пятидесятилетия Ленина. Ряды сплошь заняты. Сидят даже на краю помоста, предназначенного для президиума и ораторов. С виду Горький угрюм, бритая, с шишкообразными неровностями голова наклонена, впалые глаза затенены насупленными кустистыми бровями. В зале тихо; Горький, ухватившись обеими руками за ободки кафедры, молчит. Лишь двинулись, проступили желваки. Потом шевельнулись обвислые моржовые его усы, окрашенные над губой многолетним, дегтярного тона осадком никотина. Усы шевелятся, будто он уже начал говорить, но голосовые связки, как можно понять, стиснуты спазмом волнения.
Горький прокашлялся. И приподнял голову. Стали видны большие на удивление его ноздри. Проглянула и синева глаз. Все еще хмурясь, он неловко подвигал костлявыми плечами и развел длинные руки. Это был откровенный жест беспомощности. Хрипловатым басом, окая, он произнес первую фразу:
— Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.
Досадливо крякнул. Возможно, его требовательное ухо литератора — крупное, грубовато вылепленное — отметило нескладность оборота «человеческим словом»: каким же, в самом деле, оно может быть иным? Впрочем, до стилистики ли Горькому сейчас? Года полтора назад, в сентябре 1918-го, он пришел к Ленину, который был тогда чуть ли не смертельно ранен двумя пулями, что почти в упор террористка всадила ему в шею и в грудь, пришел после длительных несогласий с Лениным и с того дня заново определил свое место во все ожесточавшейся борьбе, впрямую вопрошавшей «на чьей ты стороне?», решил: если стреляют в революцию, то я с ней, в ее рядах! Однако на большом политическом собрании Горький со времен Октябрьского переворота, кажется, лишь впервые выступал.
— Русская история, — глухо громыхал его бас, — к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот Христофор Колумб…
Приостановившись, Горький опять крякнул, махнул рукой — было видно, что он не находит выражений, недоволен, что его занесло к Колумбу, и, не развивая такого сравнения, явно скомкав мысль, заговорил, забухал дальше: