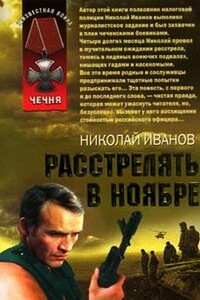
Расстрелять в ноябре
- Автор: Николай Федорович Иванов
- Жанры: Боевик / О войне
- Год: 2008
- Всего страниц: 98
- Статус: Полная версия
Автор этой книги полковник налоговой полиции Николай Иванов выполнял журналистское задание и был захвачен в плен чеченскими боевиками.Четыре долгих месяца Николай провел в мучительном ожидании расстрела, томясь в ледяных вонючих подвалах, кишащих гадами и насекомыми. Все это время родные и сослуживцы предпринимали тщетные попытки разыскать его… Эта повесть, с первого и до последнего слова, — чистая правда, которая может ужаснуть читателя, но, безусловно, вызовет у него восхищение стойкостью российского офицера…
Читать Расстрелять в ноябре (Иванов) полностью
Подобные книги

Безумие
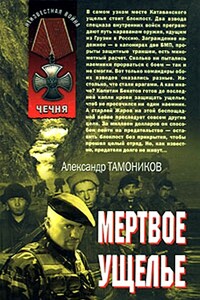
Мертвое ущелье

Глаза войны

На южном фронте без перемен

Зачистка

Военные приключения. Выпуск 7

Операцию «Шторм» начать раньше…
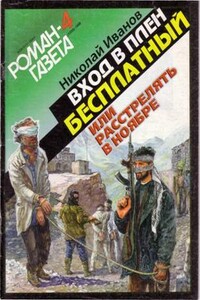
Вхoд в плен бесплатный, или Расстрелять в ноябре
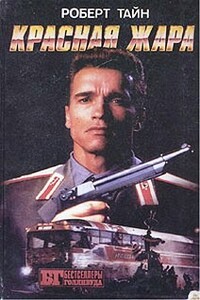
Красная жара

Дракон

Полет Стрижа

Усталая смерть

Знаменитые дела судьи Ди
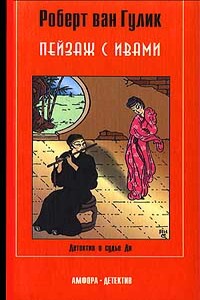
Пейзаж с ивами

Тертый калач
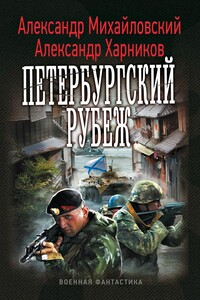
Петербургский рубеж