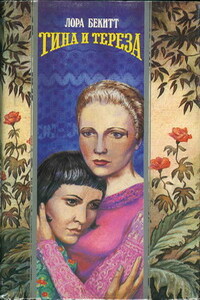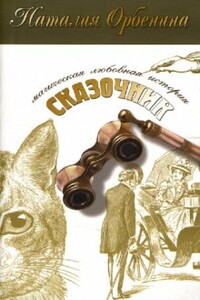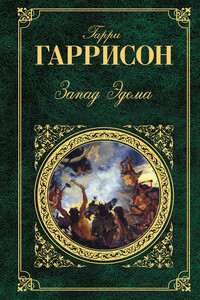Пуэрто дель Фасинадо.
Маравийоса
Март 1801 года
Ночь ложилась на город кольцами, словно большая змея. Сначала исчезло море - вечное море, бирюзовое, синее, зеленое - как того пожелает Господь Бог, какое у Него будет настроение! Море пропало, растворившись в серой дымке облаков, и вдруг оказалось, что никакая это не дымка, а тьма. Тьма легла, обвила, расплескалась. Потом, следующим своим кольцом, темнота-змея охватила берег; сгинули мачты парусников в порту, пышные сады, спускавшиеся по склонам туда, где вечно кипит прибой. И, наконец, открыв громадную пасть, где, словно острые зубы, сияли первые вечерние звезды, тьма поглотила центр города - и замок пал, провалился в ее желудок.
Но вот вспыхнули цепочки фонарей - улицы протянулись ожерельями, в порту зажгли костры и запалили дрова в бочках, обитых изнутри железом, и в домах вспыхнули окна, и во двор вынесли факелы. Темнота шипела, плевалась и отползала. Окончательно она отступит только утром, с первыми лучами рассвета.
- Тебе не надоело смотреть?
Рамиро пожал плечами. Он стоял, заложив руки за спину, у окна, длинного и узкого, словно шпага. Здесь, в новой части замка, окна были побольше, чем в старой - именно потому Рамиро когда-то выбрал себе эти комнаты. В старой части, где по традиции предпочитал обретаться отец, в окошко даже плюнуть трудно. Бойницы в стенах толщиной с человеческую жизнь, вот там что, а не окна.
Маравийоса окутывалась шафранным сиянием вечерних огней. Огни плыли по улицам - это фонари и факелы; и огни двигались в море - это рыбацкие шаланды возвращались в порт. Рамиро представил, как скрипят сейчас весла в уключинах, как плещется в парусе беззаботный ветер, как ругается рулевой на упавшую дымку - ни черта же не видать, как есть, ни черта! И волна плещет в борт, и дома ждет жена, полнотелая, румяная. И ужин.
Рамиро глубоко вдохнул вечерний воздух и отвернулся от окна.
- Ну что? Свечи зажжем? - спросил Лоренсо.
- Зови.
Лоренсо дотянулся до колокольчика и позвонил; тут же дверь распахнулась - караулили под нею, там всегда караулят, - вокруг замельтешили, и свечи зажглись как бы сами собой. В их нервном, подрагивающем сиянии стало видно собеседников. Лоренсо сидел, перекинув ногу через подлокотник роскошного кресла и покачивая начищенным сапогом. К носу сапога приклеился блик.
Прислуга на Лоренсо смотрела искоса - сколько уже лет прошло, а не привыкла, что он тут сидит, а не стоит, согнувшись в поклоне.
Рамиро застыл у окна; руки, сложенные за спиной, заставляли держаться прямо. Он устал так, как устает человек, не первый год работающий с раннего утра и до глухой ночи; спина норовила согнуться, но ее держало воспитание.