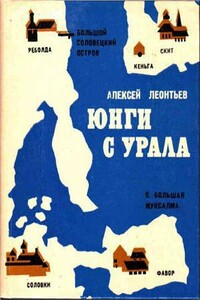Кабинет следователя был маленький и неопрятный. Это был даже не кабинет, а, наверное, какая-то подсобка, временно, на срок ремонта, приспособленная под кабинет. Штукатурка местами истрескалась и начала высыпаться, черные, толстые от пыли тенета свисали в углах с потолка, и от этого казалось, что вся комнатка пропитана пылью, как сухой мешок из-под картошки. Да еще эти нумерованные облупленные шкафы с ворохами папок и бумаг наверху, рваное сукно на столах, застарелые окурки в пепельнице...
Владимир Антонович с усилием поднялся со стула и подошел к окну, но здесь было еще хуже: глухие двойные рамы с толстыми прутьями, решетки меж ними тоже были покрыты пылью, за окном валялись скомканные желтые клочки бумаги, и трава казалась сухой и серой.
«Хорошо бы сейчас дождь, — подумал Владимир Антонович, — чтобы сделалось холодно, зябко, тогда дышать всегда легче, и голова работает ровно, чисто, без перебоев. А в такой духовке...»
Он отошел от окна и сел па прежнее место, запрокинув тяжелую, будто чужую голову.
За дверью в коридоре послышались звуки кованых сапог, и Владимиру Антоновичу пришлось принять нормальную позу, но сапоги процокали дальше. Хотя сапоги были и вовсе ни при чем: следователь, насколько помнилось, был обут в моднейшие на белой платформе туфли, платформа пружинила под огромной тяжестью, и получалось, что Размыкин, большой и грузный, ходил тихо, как кот.
«Неужели нельзя сначала покончить с одним делом, а потом уж хвататься за другое?» — рассердился Владимир Антонович.
Хотя он, собственно, знал, что не для приятной беседы вызван сюда и никто не обязан подобные заведения превращать в интуристские люксы с кондиционированным воздухом. Вон полные шкафы «дел». Пронумерованные, прошитые, пылятся протоколы допросов, всякие документы, справки, расписки. А может, это и что другое, «дела» ведь идут в суд, в прокуратуру или куда там? Но все равно до него здесь побывали сотни, а может, и тысячи людей, и они так же томились в ожидании предстоящего допроса, рассматривали стены, царапали ногтями сукно на столе, и каждый старался сделаться незаметным, маленьким и до подозрительного точным и искренним, и, что главное, — невиновным.
И все-таки, подумалось Владимиру Антоновичу, это плохо, когда человек попадает на допрос вот, в такую конуру. Посиди в этом ящике три часа — и захочется наплевать на все. Особенно если впереди, как ни крути, маячило большее или меньшее наказание: станет все равно, дадут год или сто лет.
Из повседневной практики Владимир Антонович знал, что любой проступок, не говоря уже о преступлении, если становится, выражаясь старомодно, достоянием гласности, предполагает наказание не только преступившему, но и окружавшим его: начальству, месткому, сослуживцам, ну, и само собой, людям близким — родителям, супругам, детям. Начинается это в школе, а может быть раньше: ребенок провинился — наказывают мать, отца, потом учителя... Для самого преступника наказание, наверное, тем и тяжело, что оно не на одного его падает. «А если честно? — спросил себя Владимир Антонович. — Если, как говорил Гришка, глядя в лицо своему лучшему «я»? Если честно, — ответил он, — то умом понимаю, что наказание близким грозит больше, чем мне, а всем телом, животом, подложечкой холодной знаю: накажут только меня, страдать только мне...»