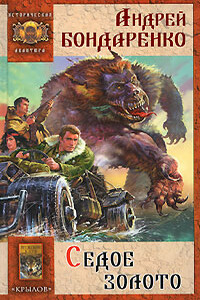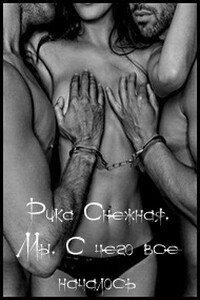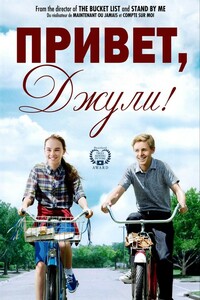В детстве мама каждый шестой день водила меня в Храм Дарена. Даже самое первое мое воспоминание связано с этим храмом. Как сейчас помню: толпа такая, что хоть чуть-чуть сдвинься с места — обязательно наступишь на чью-то ногу. Жарко, душно. Рядом стоит мама, вслушивается в обычную утреннюю проповедь и кивает в такт напевной речи священника. Приглушенные толпой слова проповеди долетают и до меня, но я ничего не понимаю. Вцепился в мамину юбку так, что одна из заплат на ней с громким треском начала поддаваться под моими пальцами. Мамина рука успокаивающе ложится мне на голову, но ее взгляд все равно прикован к чему-то, что за спинами людей мне, карапузу нескольких лет отроду, не видно. Кто-то наступает на мою босую ногу. Больно-то как! Хорошо еще, что наступивший, как и я, бос. А то остаться мне инвалидом на всю жизнь. Это становится последней каплей. «Мама! — хнычу я. — Пойдем отсюда!» Но мама лишь крепче прижимает меня к себе, не отрывая глаз от священника. И ни слова в ответ… И так — каждый шестой день. С вариациями, конечно. Иногда людей в храм набивалось чуть меньше, и можно было даже свободно дышать. Иногда мне наступали на ноги, как в тот первый раз, толкали… Шли годы, я рос. Наступать на ноги стали реже, толкались же здесь почти всегда. И всегда рядом была мама.
Но детство быстро закончилось. Буквально через месяц после того, как мне исполнилось десять лет, в Агил пришла прыгучая лихорадка. Это была уже вторая эпидемия на моей памяти. Еще одно воспоминание из детства — мы с мамой прячемся в каком-то подвале. Холодно, сыро… Я судорожно кашляю. Кашляю не только из-за того, что за неделю, проведенную в этой сырой яме, сильно простыл, но в основном из-за смрада горелого мяса, который густыми клубами расползается по городу от площадей, на которых сжигают тела умерших. Это была первая эпидемия, которую я пережил. Без последствий для меня прошла и следующая эпидемия. Хотя, когда я говорю «без последствий», имею в виду свое здоровье. Последствия были, и еще какие! Вот вам третье воспоминание — самое яркое, которое врезалось в память и останется в ней на всю жизнь. На город медленно опускается полог сумерек, но до сих пор светло — почти как днем. Тучи над головой играют багровыми отсветами от костров на площадях. Все та же вонь горелой плоти, несмолкаемый звон колоколов… И мама быстро, чуть подпрыгивая, будто в ритме колокольного звона, убегает от меня по улице. А я стою возле дверей все того же подвала, в котором мы прятались. Сжимаю в руках палку, которая еще сегодня утром служила мне мечом в игре со сверстниками, повожу своим оружием влево-вправо… «Мама, не бойся!» — кричу я. А мама продолжает бежать. Заслышав мой голос, она оборачивается. В глазах сверкают слезы… Растрепанные волосы беспорядочно свисают с головы, падают на глаза. А на ее щеке, как раз на той, которая повернута ко мне — на правой, алеет, мне даже показалось, что светится красным огнем, язва размером с ногату. Мама обернулась на бегу, взглянула на меня в последний раз и… споткнувшись, растянулась во весь рост. Я тут же бросился к ней. Но, увидев это, мама вскочила на ноги, в один прыжок скрылась за углом, и больше я ее никогда не видел. В тот день я остался один. Родственников у меня не было. А через месяц у меня не было уже вообще ничего. Хозяин квартиры, в которой мы жили, сразу же после окончания эпидемии вышвырнул меня на улицу, забрав себе все наше нехитрое имущество в счет платы за проживание. Что делать? Куда идти десятилетнему ребенку в большом, ставшем вдруг чужим городе? Тогда я еще надеялся отыскать пропавшую мать. В мою детскую голову не могла прийти мысль, что она сгорела на одном из костров, пятна от которых сейчас соскребали с плит городских площадей. И тогда я придумал! Где мы с мамой бывали чаще всего? Конечно же в храме!