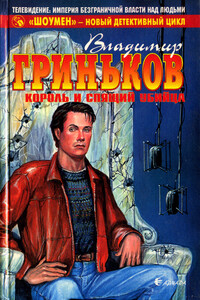Как-то я спросила отца, на каком языке он думает?
«На своем родном, на иврите», — ответил он.
Однажды в жаркий летний день отец мне сказал: «Можешь представить себе такую картину? Ты выходишь на берег моря. Над головой — слепящее солнце и яркое голубое небо, а под ногами — чистый песок и море, синее-синее море. Жарко, очень жарко… Тут же, на берегу, ты подходишь к маленькому прилавку. Лоточник выдавливает из свежих плодов стакан апельсинового сока, бросает туда лед, и ты пьешь этот обжигающий волшебный напиток!»
Мы оба понимающе улыбнулись. Прошло почти пятьдесят лет с момента его краткого пребывания в Эрец-Исраэль, но отец по-прежнему вспоминал то время как одно из самых важных событий своей жизни. Именно те ярчайшие впечатления, многократно усиленные свежестью подросткового восприятия, во многом определили его дальнейшую судьбу.
В 1943 году наша семья вернулась в Москву из Караганды, куда была эвакуирована в начале войны. Я понемногу осваивалась в новой московской школе, зачитывалась русской классической литературой. К западу от столицы продолжалась война, и наши представления о ходе военных действий определялись сводками Информбюро.
Осенью 44-го мне исполнилось четырнадцать лет. Вскоре после этого отец принес домой свежий 11-й номер журнала «Знамя». Он открыл его на странице, где начиналась повесть Василия Гроссмана «Треблинский ад».
— Это вы должны прочитать, — сказал он мне и моей сестре Аталии.
«Треблинский ад» перевернул мою детскую душу. Пожалуй, это было самым сильным впечатлением из всех, которые когда-либо влияли на всю мою последующую жизнь. Именно тогда ко мне пришло то, что называется еврейским самосознанием: я внезапно ощутила себя частью еврейского народа. Эту повесть можно считать беспримерным подвигом Гроссмана, великим прорывом в советской литературе. Увы, прошло совсем немного времени, и подобные публикации попали под запрет. Но «Треблинский ад» был уже напечатан, и советские читатели, и я в их числе, успели прочитать о том, что происходило на территории Треблинки, где действовала фабрика по массовому уничтожению евреев. Об этих недавних убийствах корреспонденту «Красной Звезды» Василию Гроссману рассказали крестьяне из окрестных деревень; после восстания обреченных в 1943 году уцелели только отдельные евреи… Гроссман тоже пережил личную трагедию: его мать погибла в Бердичевском гетто, и вот теперь он сам стоял на земле, смешанной с человеческим пеплом, пропахшей запахом смерти.
«Еще не развеялся пепел сожженных трупов, — писал Гроссман, — а в жухлой траве попадались детские ботиночки, человеческие зубы, клочья волос…»




![Похороны Степаниды Ивановны [журнал «Новый мир», 1987, № 9] - Владимир Алексеевич Солоухин](/uploads/books/images/21/2184d4802e4b85a88fdb144cc2ef87c509082cd6.jpg)