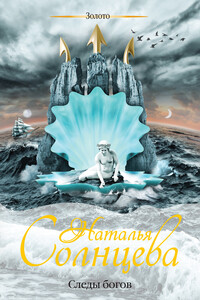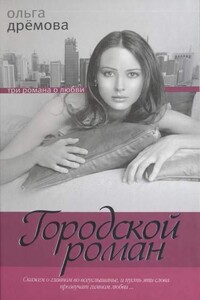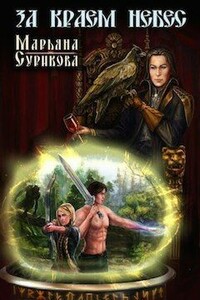Предисловие. Голос и чудо Ульяны Меньшиковой
Чудо идёт страшными дорогами. Они кривые, ни одной прямой. На них не леший, не русалка, сидящая на ветвях, нет — там мёртвая медвежья лапа из русских сказок. «Скырлы, скырлы, скырлы...»
Я с детства боялся этого звука. Которого в жизни никогда, кстати, не слышал. Скырлы, скырлы, скырлы. Кто так ходит? Смерть и чудо. Они всегда рядом идут.
Я всего четыре раза разговаривал с Ульяной Меньшиковой. Один раз, случайно встретившись в метро, один раз, когда сказали друг другу три-четыре слова на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой, и два раза по телефону. Но меня поразило, как она напевно говорит: как будто поёт. Даже когда разговор о тревожном. Видимо, это в ней сказывается её регентское настоящее. Но писатель — это всегда только голос, всегда только речь: не чирканье по бумаге, не стук по клавишам. Литература вырастет всегда из голоса.
«Абсолютное счастье, когда те, кого мы любим, возвращаются. Пусть даже и чуть задержавшись, можно и подождать, главное, что они, твои родненькие, придут, поцелуют и пожалеют тебя. Хворого, лысого, страшного, но от этого не менее любимого своего дитёнка. Счастье, когда мама молодая, весёлая, ещё учится и шлёт тебе посылки с апельсинами и книжками, и, вообще, она скоро-скоро приедет».
Ульяна Меньшикова пишет про людей. Там, в книге, её самой очень мало. Я в своё время запомнил, как умные две женщине дали совет одной молодой поэтессе: «Постарайтесь думать о других. Про них рассказывайте. Поверьте: во всех нас (в нас, в вас, в старых, в молодых) нет ничего интересного. А в них — есть!»
Ульяне этот совет не давали, но она ему следует.
«Наш район был совсем новый, без асфальтированных дорог и дорожек на тот момент. Всю осень мы месили глину и землю резиновыми сапогами, а к зиме вся эта жижа застыла комками, клубками и как придётся. И юные нелюбители меня, смеха ради, начали кидать мне в спину мёрзлые глиняно-земляные комья. Сначала это было не очень больно. Только приходилось каждый день чистить пальто и мыть голову, потому что коса на тот момент была ниже пояса и в неё постоянно забивалась грязь. А потом мальчики вошли в раж, и мёрзлые комья летели снарядами туда, куда попадут, оставляя большущие синяки и кровоподтёки».
Удивительное дело. Рассказывая, как её в детстве травили, автор рассказывает больше не о себе, а о них, травящих. Причём местоимения «я» не становится меньше, особых портретов своих мучителей автор не оставляет, но фокус наведён на них. Крупный план, внимательная камера. Мы почему-то видим именно их — глупых, скучных, сбившихся в стаю для унижения слабого, злых, погибающих в этом коллективном падении, но людей. И их жалко. Даже больше, чем героиню, которая объект погони. Потому что она победитель, а они нет. Тут и происходит этот фокус (фокус тут и в значении маленького чуда, и в значении наведения резкости): они тоже люди. У одного из них оторван воротник. Он плачет. Ему обидно и гадко. От самого себя. «Мы с мамой их простили». Так говорит не героиня текста, так говорит сам текст. Нет смысла писать текст, который не простит. И это тоже один из уроков кривых путей настоящего чуда.