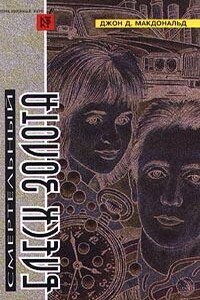
Бирюзовая тризна
- Автор: Джон Данн Макдональд
- Жанр: Крутой детектив
- Год: 2001
- Всего страниц: 159
- Статус: Полная версия
Роман о Трэвисе Макги, жизнь которого до предела насыщена авантюрами, заставляющими его балансировать на грани между жизнью и смертью.
Читать Бирюзовая тризна (Макдональд) полностью
Подобные книги
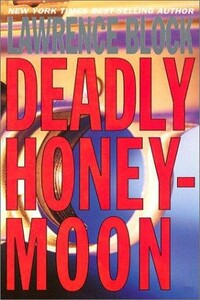
Смертельный медовый месяц

Скандал в Хай-Чимниз

Билет на погост

Зарубежный детектив 1989
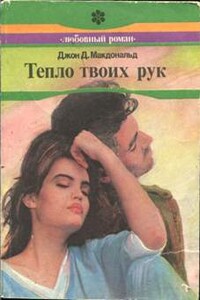
Тепло твоих рук
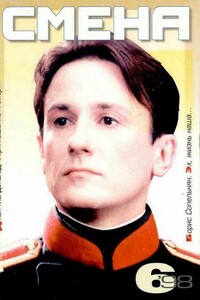
Приглашение к смерти

Возвращение на Бермуды. Фрагмент. Темнее, чем янтарь

Оставшийся в живых
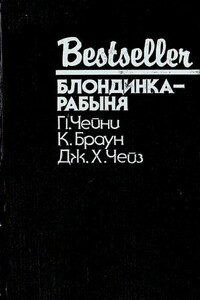
Нет орхидей для мисс Блэндиш
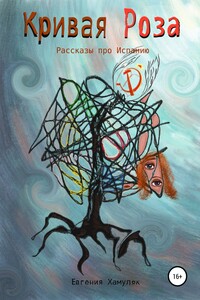
Кривая Роза. Рассказы про Испанию
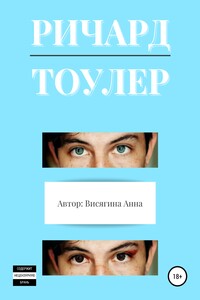
Ричард Тоулер

Участковая, плутовка и девушка-генерал

Проповедник

Дух

Занимательная ДНК-генеалогия

Утерянный рай