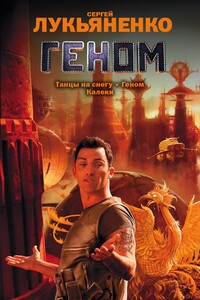Океан не помнил обид. Подобно небу он верил в свободу, подобно небу — не терпел преград. Я стоял на мокром песке, волны лизали ноги, и так легко было поверить, что чужая звезда в небе — мое Солнце, а соленая вода — древняя колыбель человечества.
Вот только линия берега — слишком ровная. Прямая как горизонт, и такая же фальшивая. Если пойти вдоль берега, то ничего не изменится — по правую руку потянутся низкие, словно подстриженные, рощицы, по левую — будет шипеть прибой. Лишь песок под ногами изменит цвет, из желтого станет белым, из белого — розовым, из розового — черным, и — обратно. Полоска пляжа неощутимо для глаз повернет вправо, ее покроет снег, потом снова потянется песок, и когда-нибудь, очень нескоро, я вернусь к этой же точке, где волны все так же будут ласкать берег…
Один человек — уже слишком много, чтобы изменить мир.
Я сделал шаг, и вода с шипением заполнила мои следы.
Мир — уже слишком мал, чтобы оставить его в покое.
Да и нет для живых безмятежности.
Только морю и небу знаком покой.
Я поднял правую руку, посмотрел на нее — и пальцы стали удлиняться. Я лепил их взглядом, превращая человеческую плоть в острые изогнутые когти.
Впрочем, есть ли у меня еще право называть себя человеком?
— Ты не захватишь письмо? — спросила Эльза. — Похоже, мы тут завязнем недели на две, муж начнет волноваться.
— Я бы на его месте не прекращал этого занятия, — неуклюже сострил я. Эльза только улыбнулась, протягивая через стол конверт. Ее спутники сидели метрах в пяти, пили темное пиво, и скалились, оглядывая нас. Ну, еще бы. Я рядом с Эльзой выглядел настоящим цыпленком. Красивые немки, на мой взгляд, редкость. А Эльза Шредер мало того что была красивой, в парадной форме «Люфтганзы» она выглядела слегка цивилизовавшейся валькирией. Все эти побрякушечки на кителе, длинный ряд серебристых звездочек над левым нагрудным карманом, невесть как удерживающийся на белокурых волосах берет, здоровенный пистолет в запломбированной кобуре…
— А он и не прекращает, — серьезно сказала Эльза. С юмором у нее было куда хуже, чем с русским языком. — Ну, как, захватишь?
— Конечно, — я взял конверт, попытался засунуть его в карман. Конверт упирался. Эльза вздохнула, потянулась ко мне через столик, расстегнула куртку, опустила письмо во внутренний карман — где уже лежал маршрутный лист и «керосиновые талоны».
И с чего она знает униформу «Трансаэро» лучше, чем я сам?
— Спасибо, Петер, — произнесла Эльза низким, мягким голосом. Похоже, коверкая мое имя на немецкий лад, она выражала свое расположение. — Ты хороший мальчик.