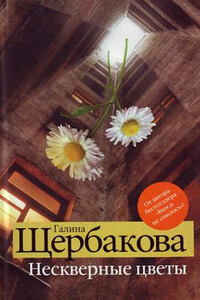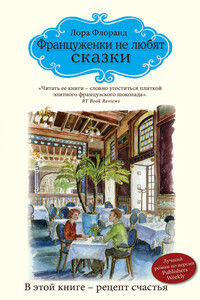На котурнах все — легче легкого. На котурнах ты летишь. А вот попробуй-ка без них.
Свет круглых, как елочные шары, лампочек над гримировальным столиком дрожит — будто старый театр подслеповато щурится. Или вдруг подмигивает Сэму, соглашаясь с ним.
Театр пахнет остро — как дорогой сыр — из открытой коробочки с гримом, театр пахнет сладко, как ванильное печенье — бежевой пудрой, которой осталось меньше половины в баночке со стершейся позолотой.
Кожаные, щегольские, на шнуровке и высокой платформе, ботинки-котурны проглатывают ступню Сэма.
Котурны — чтоб быть выше, говорит Сэм, как будто я этого и без него не знаю. Он говорит так буднично, будто бы ничего и не случилось — будто он только что и не сказал, что уезжает навсегда.
И нога, и длинные, как у восточного факира, пальцы Сэма, завязывающие шнурки — вдруг смазываются, расплываются, расплывается свет лампочек над гримировальным столиком, горячим вскипает в уголках глаз.
— Ты чего, Гринь?
Мужик ты или кто — сказал бы дед и может быть даже сплюнул в сердцах. Пацаны не плачут — сказал бы Антон — ты все-таки какой-то не такой.
Но в театре можно все, если ты тут живешь.
Даже плакать, пусть ты и мальчишка.
Только я не буду плакать — при нем. Чтобы Сэм не понял.
Не понял, как я расстроился.
Лицо Сэма плывет, уже не видно ни широких бровей, ни загримированных к вечернему спектаклю глаз.
— Ты чего?
— Я сейчас, Сэм…
Театр распахивает все двери, убирает все пороги и притолоки, чтоб я не споткнулся и не расшибся. Глаза уже ничего не видят — но я знаю, что Сэм смотрит мне вслед. И вслед несется джаз, догоняет меня, чтобы поднять над землей и помочь бежать. Сэм всегда, когда гримируется, слушает джаз — тихо, чтоб никому не мешать.
В театре есть только одно место, где можно плакать — и тебя никто не увидит. Никто не станет надоедать, не станет встревоженно или фальшиво спрашивать «кто тебя обидел, Гриш?», а тебе не надо будет огрызаться — «да я сам кого хочешь обижу!».
Пробеги мимо старинного клавесина с ненастоящими свечами, мимо Холодного Кармана — если в нем открыта дверь, по ногам тянет ледяным — в котором огромные декорации, прошмыгни мимо женских гримерок и костюмерной.
И юркни в маленькую дверь.
Все — теперь нырнуть в проход между тонкорукими феями и одутловатыми масками, сесть около Шута. Теперь пусть лицо мокрое — чепуха.
Я сижу и ненавижу всех: Сэма — за то, что уезжает, эту его Голландию, своих маму с папой — за то, что даже не попробовали его отговорить, весь театр — за то, что всем все равно, людей, среди которых Сэм не может жить. И себя — себя ненавижу больше всего, потому что распустил нюни, как маленький, и не знаю, как же я буду дальше.