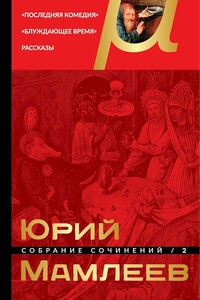Семен Петрович, сорокалетний толстоватенький мужчина, уже два года страдающий раком полового члена, решил жениться.
Предложил он свою руку женщине лет на десять моложе его, к тому же очень любившей уют. Он ничего не скрыл от невесты, упирал только на то, что-де еще долго-долго проживет.
Свадьбу договорились справлять лихо, но как-то по-серьезному. Всяких там докторов или шарлатанов отказались взять. Набрали гостей по принципу дружбы, но, чтобы отключиться от нахальства и любознательности внешнего мира, место облюбовали уединенное, за городом, на отшибе. Там стоял только домишко родственника Ирины Васильевны, а кругом был лес. Ехали туда хохоча, на стареньком автобусе, ходившем раз в два дня.
Домишко был действительно мрачноват и удивил всех своей отъединенностью.
— Первый раз на свадьбе в лесу бываю, — заявил Антон, друг Семена Петровича.
— Для таких дел все-таки повеселее надо было место сыскать, — заметил насмешник Николай, школьный приятель Ирины Васильевны.
— Окна в нем и то черны, — удивилась Клеопатра Ивановна, сотрудница Семена Петровича по позапрошлой работе.
— А мы все это развеселим, — сказал толстяк Леонтий, поглаживая брюшко.
Тут как тут оказалась собачка, точно пришедшая из лесу. Народу всего собралось не шибко — человек двадцать, так уж задумали, — и все быстро нашли общий язык.
Закуски было видимо-невидимо: старушка Анатольевна, родственница Ирины Васильевны, еще заранее сорганизовала еду.
Начали с пирогов и с крика: 'Горько, горько!'
Семен Петрович сразу же буйно поцеловал свою Ирину, прямо-таки впился в нее. 'Ну и ну', — почему-то подумала она.
Шум вокруг невесты и жениха стоял невероятный. Ирина робко отвечала на поцелуи. Вообще-то, она была безответна, и ей все равно было, за кого выходить замуж, лишь бы жених был на лицо пригожий и не слишком грустный. Грустью же Семен Петрович никогда не отличался.
Молодым налили по стакану водки, как полагается.
После первых глотков особенно оживился толстяк Леонтий.
— Я жить хочу! — закричал он на всю комнату, из которой состоял этот домик. В углу были только печка и темнота.
— Да кто ж тебе мешает, жить-то? — выпучил на него глаза мужичок Пантелеймон. — Живешь и живи себе!
— Много ты понимаешь в жизни, — прервала его старушка Анатольевна. — Леонтий другое имеет в виду. Он хочет жизни необъятной... не такой.
И она тут же задремала.
Звенели стаканы, везде раздавались стуки, хрипы. Было мрачно и весело.
Свет — окна были махонькие — с трудом попадал внутрь домика, а электричества здесь не любили.
— Молодым надо жить и жить, пусть Сема наш хворый, это ничего, кто в наше время здоров! — завизжала вдруг старушка Анатольевна, пробудясь.