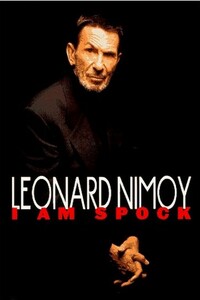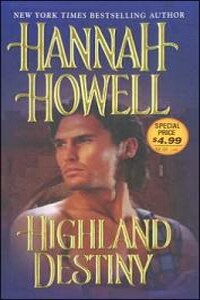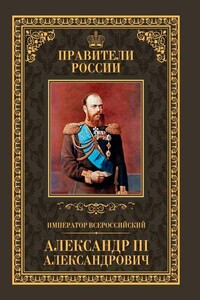Старый патефон играет Марсельезу.
Заезженная такая пластинка. У нее одна запись дублирована на обе стороны, но вторую Криворукий бережет для особых случаев, не знаю уж каких… может просто до того момента, когда на этой кроме шипения окончательно ничего нельзя будет разобрать. Патефон Криворукий любит и страшно гордится, что именно он нашел его, увязавшись за искателями. Вождь говорит, что патефон — глупая игрушка, и лучше б Криворукий нашел что-нибудь полезное, жратву например. Но в тайне тоже гордится, показывает его всем гостям, требует, чтобы Криворукий поставил пластинки. Криворукий отказывается, говорит, что на всех не напасешься, но вождь грозно топает ногами, двигает бровями и заставляет-таки Криворукого. А все потому, что патефон едва ли не единственный аппарат Тех, который исправно работает, нужно лишь покрутить ручку.
У Криворукого всего три пластинки: Марсельеза, которую он ставит в исключительно торжественные моменты, песни Утесова, у которой на одной стороне «Раскинулось море широко», на другой «Ты одессит, Мишка» — ее обычно ставят на похоронах или для очень важных гостей. И третья — с уроком итальянского языка, но не патефонная, а более новая, записанная на тридцать три оборота, из-за чего у нас она очень-очень быстро и смешно пищит какими-то нечеловеческими голосами. Криворукий долго не мог приспособить ее в дело, пока наконец не решил ставить гостям не особо важным. А на законное: «что это за фигня?», он всегда невозмутимо воздевает палец к небу и говорит: «голоса Тех!». Не поспоришь. Вождь только закрывает глаза рукой.
Так собственно вот…
Та-та шш та-кх та-ташш-шшшшшш. Шипит патефон. Даже отсюда слышно.
Все уже собрались, и только я брожу кругами. Никак не могу решить, как мне поступить — как надо, или как правильно. Всю ночь не спал… да и не одну. Голова идет кругом. Больше всего на свете хочется сбежать… вот только это совсем уж плохое решение, если сбегу, Криворукий свернет мне шею, в самом прямом смысле этого слова. Да и ничего мой побег не решит, объясняться придется еще больше.
Но искушение велико.
— А! Вот он!
Я едва ли не подпрыгиваю на месте, а Ивэн, злорадно усмехаясь, хватает меня за шкирку, легко, словно щенка, поднимает в воздух.
— Пошли!
Приходится идти, куда уж тут денешься.
Конечно, все уже давно собрались. Марсельеза доиграла, завод кончился, заново Криворукий ставить не будет, экономит. Все глядят на меня, кто с осуждением, кто… ну, в основном, конечно, с осуждением.
— Одевайся, — говорит Криворукий холодно, даже не интересуясь где я шлялся.