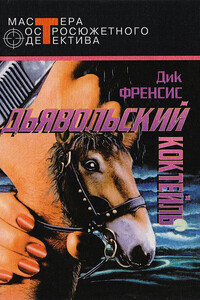Его любили все, кто ценит в человеке чистоту души, благородство чувств, ясность и широту помыслов. Его любили за неукротимую живость характера, за светлую простоту речи и за предельную искренность. Нельзя было не удивляться разносторонности его интересов и глубине познаний. Разговор с ним о классической литературе — об античных трагиках, о Гёте, Гейне, Пушкине, Шевченко, о литературе современной, советской, о различных философских течениях, об исторических судьбах того или иного народа, о путях развития человечества всегда приоткрывал перед собеседником какую-то новую сторону обсуждаемого явления, рождая подчас и споры, дружеские и принципиальные. И вместе с тем он отнюдь не был кабинетным человеком. Наоборот: у него была какая-то особенная тяга к обыкновенной, обыденной, практической жизни. Он не на шутку, хотя, быть может, и без достаточных оснований, считал себя знатоком во многих областях именно этой практической жизни. Он любил физическую работу, он охотно занимался в часы досуга столярным и слесарным делом, у него была даже какая-то страсть всюду собирать какой-то железный лом, какую-то ненужную проволоку, какие-то испорченные, ржавые замки, которые он, к неудовольствию домашних, таскал к себе на квартиру, исправлял, чинил, выравнивал, пилил, чистил… Это было, пожалуй, чудачество, но такое милое, такое, я сказал бы, человеческое…
Друзья подтрунивали над его феноменальной рассеянностью. Так, однажды он купил в Москве (жил он в Киеве) две детские шапочки. На вопрос, кому эти шапочки предназначены, он ответил, что купил их, как и всегда, для своих детей, и был в первую минуту искренне озадачен, когда ему напомнили, что дети эти окончили уже вузы… Потом, конечно, сам расхохотался.
Однажды мы с ним, в той же Москве, ехали трамваем в Союз советских писателей. Мы пропустили нужную остановку. Узнав об этом, он, не задумываясь, выпрыгнул из вагона. По благоразумию или из трусости я не последовал за ним и вышел на следующей остановке. Оттуда я пошел назад — и застал моего друга у почтового ящика. «Я уже написал домой и опустил в ящик открытку!» — заявил он. «Что ж ты там написал?» — «Три слова: жив и невредим». — «Да ведь домашние твои не знают, что ты прыгнул из трамвая!» — «А ведь и в самом деле!..» — И снова этот чудесный заразительный смех. Его рассеянность была какой-то органической и прелестной чертой, без нее трудно себе и представить его образ.
Его любили, и он любил людей. Как-то он, забыв о собственных делах, целый день бродил по магазинам с каким-то впервые встреченным моряком, который решил купить себе штатское платье, — бродил в качестве добровольного консультанта… Он мог самозабвенно хлопотать об издании книги начинающего поэта, в котором открыл талант. Он с такой чарующей простотой, с таким непритворным увлечением входил в интересы малознакомых и даже незнакомых людей, помогая им в самых разнообразных начинаниях — от написания, скажем, серьезной статьи до найма дачи и даже чего-либо несравненно более мелкого, — что никто этому в конце концов и не удивлялся.