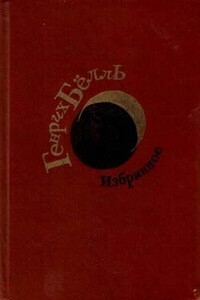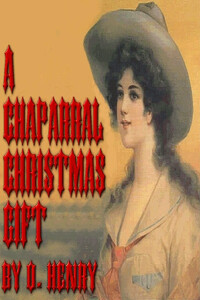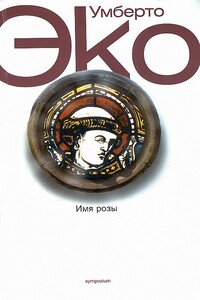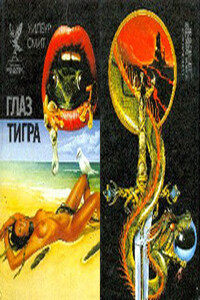С войны я вернулся только весной 1950 года и не нашел в нашем городе ни одного знакомого. К счастью, родители оставили мне в наследство немного денег. Я снял комнату и целые дни лежал на кровати, курил и ждал, а чего ждал, сам не знаю. Работать мне не хотелось. Я давал хозяйке деньги, она покупала продукты и готовила еду. Всякий раз, когда она приносила кофе или обед, она оставалась в моей комнате дольше, чем мне хотелось бы. Ее сын был убит в деревушке, которая называлась Калиновка, и когда она входила ко мне, она ставила поднос на стол и направлялась в тот темный угол, где стояла моя кровать. Обычно я лежал в каком-то полусне, много курил и тушил докуренные сигареты прямо о стену, и поэтому стена над кроватью вскоре оказалась вся в черных пятнах. Хозяйка моя была на редкость худая, и когда ее бледное изможденное лицо вдруг возникало в полумраке над моей кроватью, я пугался. Сперва я думал, что она сумасшедшая, потому что у нее были какие-то странные, белесые и очень большие глаза и она всякий раз спрашивала меня о своем сыне.
— Вы уверены, что не знали его? Деревня называется Калиновка, неужели вы там не были?
Но я никогда не слышал о деревне, которая называется Калиновка, и я неизменно поворачивался лицом к стене и отвечал:
— Нет, я в самом деле не помню такого места.
Но хозяйка моя не была сумасшедшей, напротив, она любила порядок, и мне было больно, когда она задавала мне вопросы о сыне. А спрашивала она о нем по два-три раза в день, и когда я заходил к ней на кухню, она мне всегда показывала его портрет, вернее, цветную фотографию, которая висела над диваном: смеющийся белобрысый парень в парадной форме пехотинца.
— Его фотографировали в гарнизоне, — объясняла она мне всякий раз, — перед самой отправкой на фронт.
Это был поясной портрет: солдат в каске на фоне бутафорского замка, увитого бутафорским плющом.
— Он работал трамвайным кондуктором, — в который раз рассказывала мне моя хозяйка, — старательный был парень.
И затем она всегда протягивала мне картонную коробку с фотографиями, которая стояла у нее на ночном столике, заваленном лоскутками для заплат и моточками штопки. И мне приходилось одну за другой перебирать очень много карточек ее сына: групповые снимки, сделанные в школе — в первом ряду всегда кто-нибудь сидел, зажав между коленями грифельную доску, на которой было написано сперва «VI», потом «VII» и, наконец, «VIII»; перехваченные красной резинкой, отдельно хранились фотографии сына во время причастия: мальчик в черном, похожем на фрак сюртуке, с гигантской свечой в руках стоял перед транспарантом, на котором была изображена золотая чаша; потом шли фотографии, где он был запечатлен у токарного станка: чумазый парнишка — ученик слесаря — с напильником в руках.