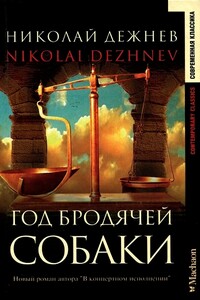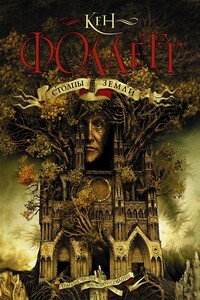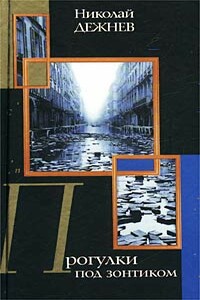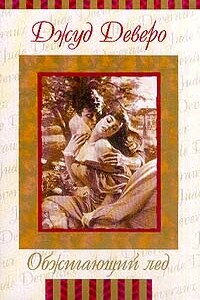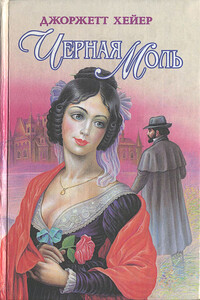— Слышь, Андрюха, ты свое мнение не выпячивай! При себе держи — целее будет!
А он и не выпячивал. Разве что вставил словечко по ходу пустяшного, лишенного смысла разговора, про который в народе скажут, мол, трендят о буях и пряниках. Да и спорили как-то вяло, без огонька — так, перебрасывались словами, чтобы скоротать едва ползущее время. Мырло придерживался мнения, что за день больше ста бутылок по электричкам никак не собрать, в то время как Павлик клялся здоровьем бросившей его в раннем детстве мамаши, будто бы сам, самолично, набирал до двух сотен. При этом в качестве основного аргумента юноша полагался на силу слова, по большей части, непечатного.
Андрей слушал перебранку вполуха и на окрик Мырло вовсе даже не обиделся. Да и что было обижаться, если тот сидел нахохлившись, весь дерганый, как от электричества. А сказать Андрей хотел, что грешно в такой день ругаться, что жизнь прекрасна и хорошо ему так вот нежиться, как коту, на припеке, вдыхая дразнящий запах молодой, пробивающейся травки. Небо над головой открывалось бесконечное, налетавший ветерок ласково трепал нежную листву, и сам этот яркий весенний день только еще начинался, обещая счастье и радости простого животного бытия. Странное томление владело всем его длинным, жилистым телом, и чудилось Андрею, что парит он в пронизанном солнечными лучами пространстве, купается в волнах света и тепла. В этой благостной бездумности и отрешенности от мира и состояла для него непередаваемая прелесть праздничного майского утра.
Где-то совсем близко коротко и тревожно прокричала электричка. Андрей повернулся на бок и, приподнявшись на локте, принялся смотреть, как блестят полированным металлом нитки рельс, уходящих по широкой дуге к Белорусскому вокзалу. С высокого, тянувшегося вдоль железнодорожного полотна пригорка хорошо были видны отдыхавшие на запасных путях электрички, их лобовые стекла сверкали в лучах солнца. Место было тихое, от чужого взгляда потаенное, отгороженное от мира жавшимися один к другому бетонными гаражами. Если кто и забредал сюда, так только местные собачники, да еще шебутные компании, вроде той что расселась теперь в полном безделии на окруженной кустами, залитой солнцем лужайке. После бесконечно долгой зимы и сменившей ее промозглой весны так славно было купаться в обнимающем тепле по-летнему жаркого дня.
А все-таки удивительно, — думал Андрей, смежив веки и постепенно погружаясь в дремоту, — почему никто не хочет замечать, что я все еще живу на белом свете?.. Если в кой веки раз удастся вставить в разговоре словцо, и то обязательно перебьют или, того хуже, просто не услышат, как будто знают наперед, что ничего толкового сказать не могу. И на улице никто никогда не подходит, не предлагает от фирмы подарок, а если уж очередь, то пересекают ее именно там, где я стою. Незаметный какой-то я человек, и с этим, наверное, уже ничего не поделать… — Андрей зевнул, подтянул к груди колени, готовый провалиться в сон. — Впрочем, я привык, может поэтому и жизнь такая нескладная, что никому до меня нет дела, никому я не нужен. — Он потащил на себя край ватника. — Ну и ладно, ну и пусть…