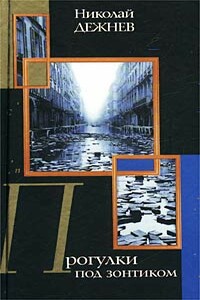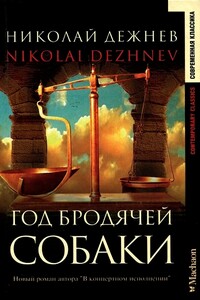— Что стоишь, заходи! — Звук голоса разнесся над тихой водой.
Я стоял на крошечной пристани, раскрытой ладонью протянутой городом к реке. Сам городок, маленький и зеленый, лежал за моей спиной на высоком берегу. От досок настила к нему вела ветхая, вросшая в косогор лестница, увенчанная почерневшей от времени ажурной беседкой, какие в старые времена любили ставить над открывавшимся взгляду простором. Было время белых ночей. Призрачный свет, рассеянный и неверный, растворялся в холодном, насыщенном влагой воздухе, наполнял до краев плоскую чашу низины. На другом берегу, изумрудно зеленея, раскинулись луга, и дым костра ночного столбом уходил в высокое небо. Лягушачий хор заливался в осоке.
— Пошевеливайся! — Матрос нетерпеливо махнул рукой. — Пароход у нас веселый, не пожалеешь…
Где-то открылась дверь, и прямоугольник света, ломаясь, упал на палубу. Я ступил на скрипучие доски сходней. Пристань качнулась, подалась куда-то в сторону и вскоре совсем растаяла в серебристой мгле. Матрос ушел, проявив к моей судьбе полнейшее безразличие.
— Вам ведь не хотелось уезжать, правда? Вас что-то связывает с этим городом?
Я обернулся. После долгого сидения тело ныло и холод скованности выходил из меня крупной дрожью. Я рассчитывал сидеть до утра и уже задремал, когда, открыв вдруг глаза, увидел перед собой пароход. Беззвучно и плавно он выгребал из лежавшего на воде тумана. Так в детстве в сладком сне является нам окутанный седыми облаками сказочный замок.
Женщина приблизилась. В причудливом свете ночи я увидел ее лицо. Теперь, вспоминая, я нахожу его красивым, как, впрочем, со временем становится красивым все безрассудно утраченное нами. Меня поразили глаза, в их выражении я прочел ожидание чуда. Наши взгляды встретились, и сердце мое сжалось от неосознанной тревоги. Мне стало страшно от пришедшего вдруг понимания неотвратимости потери.
— Вы тоже это почувствовали? — Она пыталась рассмотреть меня в черной тени навеса. — Как-то сразу стало неуютно и тревожно… Наверное, всему причиной освещение. Оно точь-в-точь как при затмении, и поэтому беспокойно на душе. — Она помолчала, глядя на серебрившуюся у борта воду, добавила: — И еще, конечно, одиночество. Человек ведь обречен быть одиноким. Нам так легко докоснуться друг до друга, но понять… — Она так и сказала — «докоснуться», как, наверное, говорила в детстве. — Мы едины в момент душевного порыва, но стоит ему пройти, как человек снова низвергается в темницу своего «я». Беспричинная тревога, должно быть, сродни температуре, только болеет не сердце, а душа…