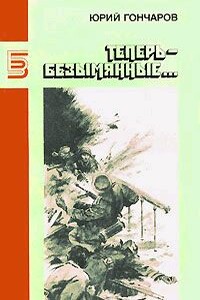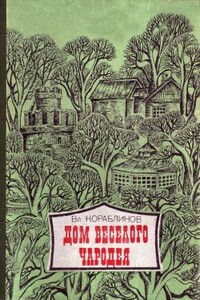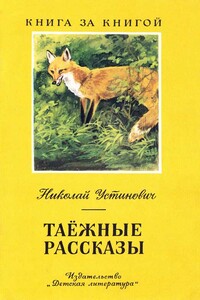Последний день Афанасия Мязина
– Это не сушчественно! – пронзительно кричал Писляк. – Это не сушчественно! Это упрамство! Это с вашей стороны больше ничего, как упрамство!
Он привскакивал со стула, растопыренными короткими пальцами мельтешил перед усталыми глазами старика, сучил кривоватыми, обутыми в тонкие хромовые сапожки ногами.
Кричали все: и темная, большеротая, носастая, похожая на ворону Олимпиада, и рыженькая Антонида, и провонявший грибною плесенью дядя Илья. Но Писляк всех громче и всех противней. Его резкий характерный выговор сверлом буравил у виска черепную кость.
Плоская, с глазами-щелками, с торчащими, как самоварные ручки, лопушистыми ушами физиономия Писляка всегда кого-то напоминала Мязину – то ли из множества виденных за долгую жизнь людей, то ли из прочитанного давным-давно, возможно, еще в отрочестве, но кого – он так и не мог припомнить.
«Ох! – простонал Мязин, поеживаясь. – Вот денек…»
Они никогда не баловали его своим вниманием, но сегодня вдруг все собрались («весь мязинский помет», как говаривал покойный папаша) поздравить с днем рождения, с семидесятилетием, – обе сестры, зятек Писляк, дядюшка Илья Николаич… Олимпиада так даже сына прихватила – для большей торжественности, что ли. Сидел Колька, громадный, молчаливый, весь налившийся кровью, в моряцкой фуражке на белых льняных кудрях, разглядывал узловатые ручищи с синими наколками (якорь и цепи на одной и голая девка со щучьим хвостом – на другой), в разговор не вмешивался. Иногда дружелюбно даже подмигивал: «Держись, мол, дед, не сдавайся!» Привыкшему на своих плотах к речному простору, к ветру, к вольной жизни сплавщика, Николаю было явно не по себе от этой душной низкой комнаты, от визгливых, злобных выкриков, от всего того бессмысленного и жестокого, что происходило возле больного Мязина.
А происходило вот что.
Старик пенсионер, некогда блистательный герой гражданской войны, вдруг заболел, слег в постель и, как все редко болеющие люди, испугавшись смерти, составил завещание. И вот то, что он вдруг заболел и сделал какие-то предсмертные распоряжения, а главное, то, что родственники оказались обойденными, обиженными этими распоряжениями, – вот это-то и привело их всех в мязинский дом, как будто бы для того, чтобы поздравить больного с днем рождения, а на самом деле – чтобы уговорить, принудить переписать завещание.
Весь день шумели родичи.
– Упрамство! Упрамство! – долбил Писляк.
– Грех тебе, Офоня! – зловеще, как над покойником, вычитывала Олимпиада. – Великий, братец, грех, непрощенной, незамолимой… Единоутробных забвение, кореня своего непочитание…