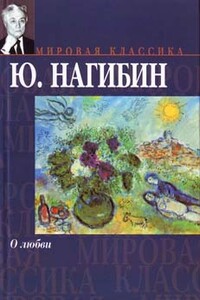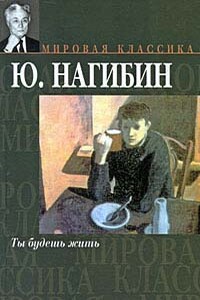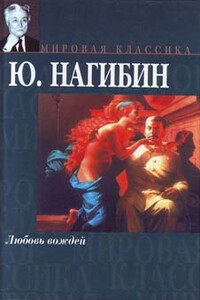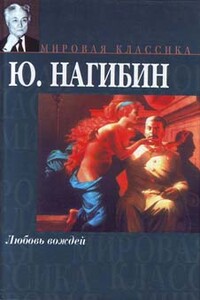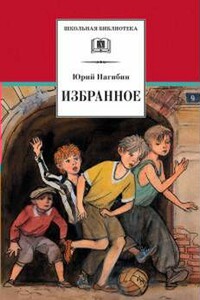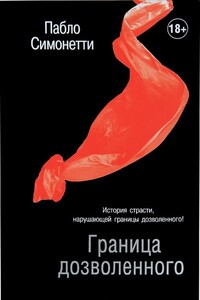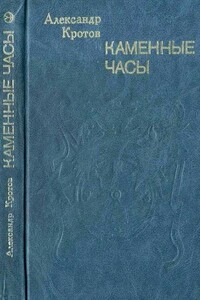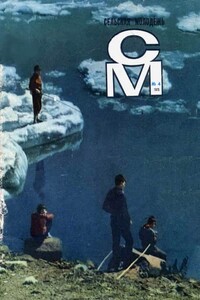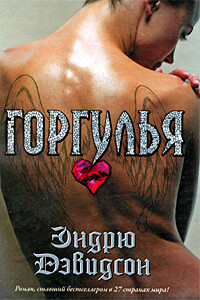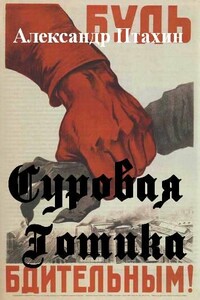1
Когда Нина Ивановна уже перестала ждать чего-либо от лета, находившегося в самом исходе, выяснилось, что они едут на Валдай по грибы. Павел Алексеевич получил письмо от старого друга, отдыхавшего с женой и сыном на берегу Валдайского озера, в «зоне отдыха» большого новгородского завода. Нина Ивановна никогда не слышала о существовании у мужа старого друга-новгородца, но Павел Алексеевич объяснил, что друг коренной москвич, а с новгородским заводом как-то связана по работе его жена.
У Павла Алексеевича вообще было много друзей-невидимок, среди них — рыбаки, приглашавшие его на богатейшие рыбалки, лесничие, манившие добычливыми охотами, археологи, звавшие на Алтай или Чукотку. И не понять, где и когда завел эти пестрые дружбы художник-график и упрямый домосед Павел Алексеевич, почти не вылезавший из своей берлоги. Нина Ивановна как-то забывала, что муж, бывший на пятнадцать лет старше ее, прожил до их брака уже немалую жизнь — с войной, неудачной женитьбой, разводом, скитаниями. И видать, умел он крепко западать людям в душу, если те сквозь годы не оставляли настойчивых и бесплодных попыток вытащить его к себе. Странно, но за всю их долгую совместную жизнь лишь один из этих далеких загадочных незнакомцев воплотился в смущающегося, растроганного и якобы не располагающего лишним временем гостя весьма дремучего облика. Гость много пил, почти не закусывая, но и не теряя разума, и заставлял пить непьющего Павла Алексеевича, смотрел на него как на новый гривенник, а молодой жене друга — ноль внимания. Нина нисколько не обиделась, и грубоватый этот, будто из одного куска слаженный и вскоре навсегда исчезнувший человек понравился ей куда больше московских друзей Павла Алексеевича. Этих она не жаловала. По странному совпадению все они оступились не в ту профессию, какой им надлежало заниматься. Врачи музицировали и пели, биолог писал пародии, редактор лепил из глины, инженер-слаботочник играл на сцене самодеятельного театра, а единственный художник-профессионал работал охотоведом на Мещерских озерах.
Нине казалось, что близость этих дилетантов, бессильно и упорно посягающих на чужое ремесло, принижает Павла Алексеевича, будто он тоже любитель с напрасным и жалостным дарованьицем, а не мастер, чтимый в своем цехе. Почему он избегает собратьев по профессии? А может, они его избегают? Как-то уж слишком сам по себе существовал Павел Алексеевич, на отшибе — и в прямом, и в переносном смысле. Их жилье находилось в сорока пяти километрах от Москвы, и требовались чрезвычайные обстоятельства, чтобы он выбрался в город. Например, выставка. Павел Алексеевич был офортистом и участвовал в выставках маленькими пейзажными работами. Чаще всего то были сельские пейзажи, изредка городские; особенно удавались ему ленинградские виды: лев на набережной, старинный фонарь под аркой, заснеженная ветвь, перекинувшаяся через узорчатую решетку. Этими работами он был обязан своей цепкой, сильной памяти, поскольку в Ленинграде бывал лишь в юности, до войны. С годами, накапливая мастерство, обретая маститость в малоприметном и безвыгодном деле, Павел Алексеевич не ширил, а все сужал свои возможности. Если раньше его хватало на цветущий яблоневый сад, или березовую рощу, или косогор под небом в перистых облаках, то сейчас он с великим тщанием, близким муке, выжимал из себя снегиря на ветке, зайца, притаившегося под кустом, пьющую из лужи трясогузку. Все это было прелестно и, наверное, требовало большого мастерства, но Нину угнетало изощряющееся в мелочах и самоизмельчившееся искусство мужа. «Надо же — снегирь! — нарочито поражалась она. — С чего ты так расщедрился, Павел? Неужели недостаточно хвостика или просто перышка?» — «А что ты думаешь? — Конечно, он притворялся, будто не замечает иронии. — Ничего больше и не нужно. Но перышко, просто перышко — это так трудно! Мне не потянуть». — «Мужайся, — холодно советовала она, — время еще есть». Он безнадежно махал рукой: «Да тут целой жизни не хватит».