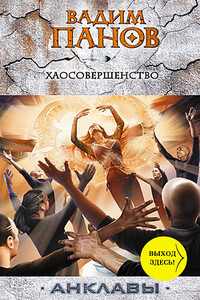Д е в у ш к а м о е г о д р у г а
1
Когда, приехав с вокзала, мы с мамой входим в нашу квартиру, в ней тихо, пусто, и посреди коридора сидит большая серая крыса. Она удивленно смотрит на нас черными глазами-бусинками, шевелит усами и неторопливо убегает в ванную. Все комнаты открыты. Наши стулья почему-то ока; зываются в комнатах соседей, а всей остальной мебели нет. Видно, пропала. Стекло в одном из окон вылетело — наверно, его выдавило при бомбежке взрывной волной. Кто-то забил окно листом железа. Хорошо еще, что мы вернулись из эвакуации летом, а то зимой из-за этого могли бы замерзнуть. В первую же ночь крысы начисто съедают задники у моих ботинок, и утром приходится срочно бежать на толкучку, покупать на последние деньги другие ботинки и на ночь убирать их повыше. За неделю мы с мамой приводим квартиру в порядок. Теперь в ней можно жить. По вечерам я спускаю плотные синие бумажные шторы и старательно прижимаю их края к оконным рамам, чтобы снаружи не было видно ни полосочки света, В первые дни мне это не всегда удается, и тогда к нам приходит дворничиха тетя Дуся, которая следит за; светомаскировкой. Она ловко прижимает шторы к рамам и потом пьет у нас чай с сахарином.
Как-то вечером я встречаю на лестнице Лерку Хмелеву, которая живет у нас на пятом этаже. С ней мы до войны играли в прятки, в ножички, дрались и менялись фантиками. Словом, ту самую Лерку, без которой я не могу представить свое детство.
Лерка всегда была ниже меня, а сейчас она кажется мне особенно маленькой. Но, несмотря на это, я вдруг чувствую, что она уже взрослая. То ли в этом виновата ее пышная прическа, то ли ее модная шляпка, то ли бусы, выглядывающие из-под пальто, но она уже взрослая, а я все еще мальчишка и поэтому не могу назвать ее по-старому — Леркой. Она начинает ахать, расспрашивает обо всем меня, рассказывает о себе. Месяц назад она вернулась из Фрунзе, где с начала войны жила в интернате, и уже успела поступить в студию при одном из небольших московских театров. Неожиданно она спрашивает: — Ты с Вовкой Малковым переписываешься? И тут же почему-то краснеет. Я отрицательно качаю головой: нет, я не переписываюсь с Вовкой, хотя мы с ним и были до войны друзьями. Не знаю уж почему, но я не переписывался во время эвакуации не только с Вовкой, который уехал на Урал, но и ни с кем из ребят нашего дома. Как-то не принято это у мальчишек, даже если они большие друзья. — Жалко. — Лера вздыхает. — А в чем дело? — Я переписывалась с ним почти все время. Но последнее письмо пришло в интернат еще в начале лета, а здесь я ни одного не получала. Он писал, что его матери обещали пропуск в Москву... — Хорошо бы! — говорю я и думаю: «Странно! Почему это Вовка с Леркой переписывался? Очень странно! » Видимо, Лера понимает, о чем я думаю, потому что она снова густо краснеет и прощается. — Ты заходи ко мне! — кричит она уже сверху, в пролет лестницы. Но зайти к Лере я так и не смог. Вскоре у меня серьезно заболела мама, и врачи сказали, что это надолго — может, на год, а может, и на два. Маме дали пенсию, но такую маленькую, что жить на нее вдвоем совершенно невозможно. И тогда я еду по совету ребят из соседнего двора на один из заводов и поступаю туда учеником токаря.


![Девушка моего друга [сборник] - Исай Давыдов](/uploads/books/images/a4/a454097d86d671d144a41fc0995306c6467ce4d6.jpg)