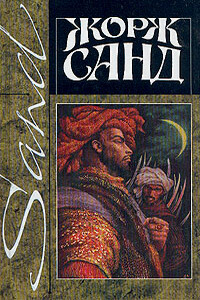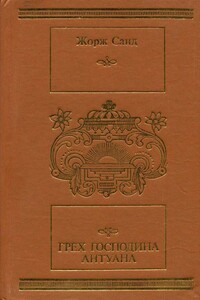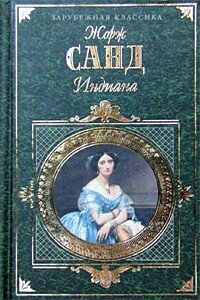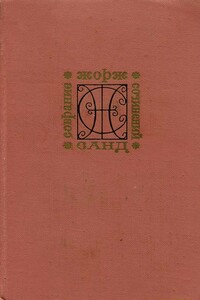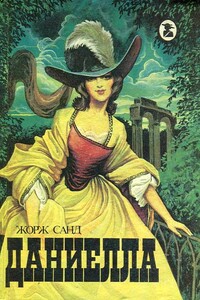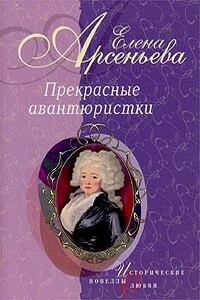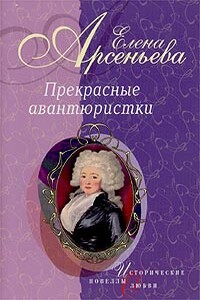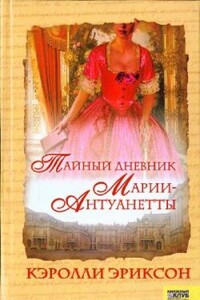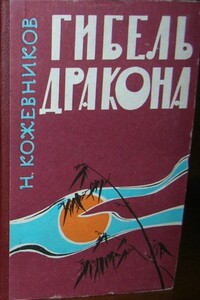— Кажется, Лелио, — сказала Беппа, — мы вогнали в сон достойного Ассейма Зузуфа.
— Ему скучно слушать наши рассказы, — заметил аббат. — Он человек слишком серьезный, чтобы его занимали такие легковесные сюжеты.
— Простите, — ответил мудрый Зузуф. — На моей родине страстно любят слушать рассказы. В наших кофейнях постоянно выступают рассказчики, как у вас — импровизаторы. Свои повествования они ведут то в прозе, то в стихах. На моих глазах английский поэт слушал их целыми вечерами.
— Какой английский поэт? — спросил я.
— Тот, кто воевал на стороне греков и от кого европейцы узнали историю Фрозины и еще другие восточные предания, — сказал Зузуф.
— Пари держу, что он не знает имени лорда Байрона! — вскричала Беппа.
— Отлично знаю, — возразил Зузуф. — Я только не решаюсь его выговорить, потому что, когда я это делал при нем самом, он всегда усмехался. Видно, я очень плохо произношу.
— При нем! — вскричал я. — Значит, вы с ним встречались?
— Часто встречался, главным образом в Афинах. Там-то я и рассказал ему историю ускока, которую он изложил по-английски в «Корсаре» и «Ларе».
— Как, дорогой Зузуф, — сказал Лелио, — так это вы — автор поэм Байрона?
— Нет, — ответил керкирец, которого эта шутка нисколько не рассмешила.
— Он ведь совсем изменил эту историю, да к тому же я вообще не могу быть ее автором, так как она — быль.
— Ну, так вы нам ее расскажете, — сказала Беппа.
— Но вам она должна быть известна, — ответил он. — Это ведь скорее венецианская повесть, чем восточная.
— Я слышала, — продолжала Беппа, — что сюжет «Лары» навеяла Байрону смерть графа Эдзелино, которого — дело было в эпоху морейских войн — убил ночью у перевала Сан-Миниато какой-то ренегат.
— Значит, — сказал Лелио, — это не тот знаменитый мрачный Эдзелин…
— Кто может знать, — вмешался аббат, — кем был на самом деле тот Эдзелин и в особенности Конрад? Зачем доискиваться, какая историческая правда лежит в основе красивой, поэтической выдумки? Не означает ли это лишить ее всякой прелести и аромата? Если бы что-нибудь могло умерить мое поклонение Байрону, так это историко-философские примечания, которыми ему вздумалось подкрепить правдоподобие своих поэм. К счастью, теперь уже никто не требует от него отчета, откуда взялись его божественные выдумки, и мы знаем, что самое исторически достоверное лицо его поэм — это он сам. Благодаря богу и своему гению он изобразил себя в этих возвышенных образах. Да и какая другая модель была бы достойна позировать такому художнику?
— Все же, — сказал я, — мне хотелось бы обнаружить в каком-нибудь позабытом, темном уголке материалы, которыми он пользовался, воздвигая эти величественные здания. Чем проще и грубее они оказались бы, тем больше восхищался бы я искусством, с которым он их применил. Вот так же точно хотел бы я видеть женщин, послуживших моделью для мадонн Рафаэля.