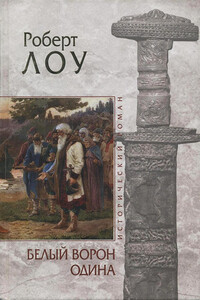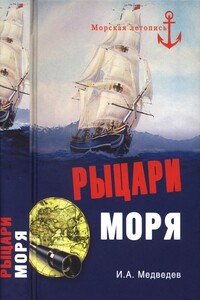Уильям Фолкнер
Черная арлекинада
Перевод О. Сороки
Стоя в линялом, потрепанном, чистом комбинезоне, неделю только назад стиранном еще Мэнни, он услышал, как первый ком стукнулся о сосновую крышку. Затем и он взялся за лопату, что в его руках (рост - почти два метра, вес девяносто с лишним) была словно игрушка малышей на пляже, а летящие с нее глыбы - как горстки песка с игрушечной лопатки. Товарищ тронул его за плечо, сказал: "Дай сюда, Райдер". Но он и с ритма не сбился. На ходу снял с лопаты руку, отмахнул назад, ударом в грудь на шаг отбросив говорящего, и рука вернулась к не прервавшей движения лопате, мечущей землю так яростно и легко, что могила будто росла сама собой - не сверху насыпалась, а на глазах выдвигалась снизу из земли - пока наконец не стала как прочие (только свежее), как остальные, там и сям размеченные черепками, битым стеклом и кирпичом - метами с виду невзрачными, но гибельными для осквернителя, исполненными глубокого, скрытого от белых смысла. Он распрямился, швырком вонзил в холмик лопату - древко затрепетало, точно копье, - повернулся и пошел прочь и не остановился, даже когда от кучки родичей, товарищей по лесопилке и двух-трех пожилых людей, знавших и его, и мертвую его жену еще с пеленок, отделилась старуха и схватила его за руку. Это была его тетка. В доме у нее он вырос. Родителей своих он не помнил совсем.
- Ты куда идешь? - спросила она.
- Домой иду, - сказал он.
- Что тебе там одному делать? - сказала она. - Тебе поесть надо. Идем поужинаешь.
- Домой иду, - повторил он, шагая прочь, словно и не почувствовав ее пальцев на железном своем предплечье, как не чувствуют мушиного прикосновения, и товарищи, у которых он был на работе за старшего, молча расступились перед ним. Но у изгороди его догнали, и он понял - тетка послала.
- Постой, Райдер, - сказал догнавший. - У нас тут бутыль в кустах... И нежданно-негаданно для себя самого выговорил то, обычно не упоминаемое, хоть и каждому известное: про умерших, что не хотят либо не в силах сразу расстаться с землей, пусть облекавшая их плоть уже возвращена в нее, сколько бы ни утверждали, подтверждали, твердили проповедники, будто не в печали, но в радости покидают юдоль и возносятся они к горней славе: - Не ходи туда. Она там еще.
Не останавливаясь, он взглянул на того сверху вниз.
- Отстань, Эйси, - сказал он (голова слегка откинута назад, внутренние уголки глаз покраснели). - Не тронь меня теперь.
И, с ходу шагнув через проволочную изгородь в три нитки, пересек дорогу и вошел в лес. Сумерки уже сгустились, когда, оставив лес позади, он прошел полем, опять с ходу перешагнул изгородь и вышел на дорогу. Она была пуста в этот вечерний воскресный час - ни фургонов с негритянскими семьями, ни конных, ни идущего в церковь пешехода, что перекинулся бы с ним словом и потом уж ни за что на него бы не оглянулся, - легкая и сухая, как порошок, светлая августовская пыль, с которой праздно и неспешно ступающие воскресные башмаки стерли следы колес и копыт, следы долгой недели будней; а где-то подо всем этим - сглаженные, но не изглаженные, запечатленные, пожженные в пыль узкие, носками наружу, отпечатки босых ног жены: здесь она проходила по субботам в лавку за припасами на всю неделю, пока он мылся, придя с работы; а теперь вот он шагает размашисто (человечку помельче пришлось бы семенить рысью, чтоб не отстать), и его следы печатаются, его тело движется сквозь воздух, которого уж ей не колебать, в его глазах мелькают предметы - столбы, деревья, поля, дома, холмы, - от ее глаз уже сокрытые.