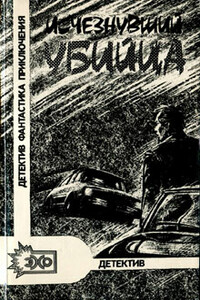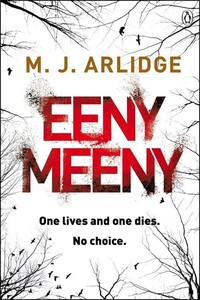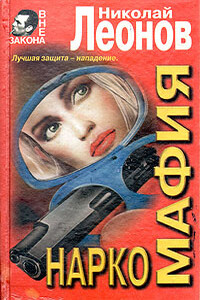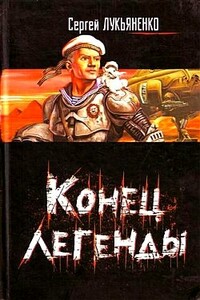Как ни поворачивалась к свету Нина Никифоровна Маврина, вынуждена была она признать, что с прошлого лета располнела. Светло-кофейное платье «сафари», что на арабском означает «путешествие», с простроченной ленточкой ткани, которая должна изображать патронташ, с узким длинным карманом у бедра — для охотничьего ножа, натянулось с трудом. Огорченно отвернувшись от зеркала, постучала в комнату к сыну:
— Дима, ты встаешь или нет? Опоздаешь на работу!
— Встаю.
Не открывая глаза, Дима нащупал магнитофон и нажал клавишу, тотчас грянула, лязгнула «хеви метал мьюзик». Под звуки забойной мелодии он повернулся на постели, укрыл голову подушкой и продолжал лежать в тяжелой, мутной полудреме. Но спать уже не давали. В дверь настойчиво, бесцеремонно постучал отец.
— Открой сейчас же!
— Папа, я не могу, — ответил Дима, приподняв подушку.
— Что значит — не могу? — сразу же взорвался отец.
— Я на голове стою.
— Меньше надо по ресторанам шляться, не будешь тогда по утрам на голове стоять! Открой, сломаю все к чертям!
Дверь содрогалась на расшатанных петлях, сыпалась побелка.
— Ну, правда, папа, я же йогой начал заниматься. Четыре минуточки только. Асану сменю, — соврал Дима, припомнив кстати руководство по йоге, которое разглядывали они вчера с пацанами, хихикая над особенно колоритными картинками.
Отец, должно быть, удивился. Отозвался он не сразу:
— Чего?
Музыку Дима выключил, отбросил подушку и отвечал примирительно, почти заискивающе:
— Асану, папа. Это значит стул или скамья там, а в йоге…
— Ты откроешь, черт возьми?!
Дима поднялся с кровати, подвинулся к двери, но впустить отца не решился.
— Батя, ну что ты хочешь?
— Что я хочу? Да я… Я много чего хочу! И самое малое из этого, чтобы ты вовремя возвращался домой. Самое малое!
— Папа, честное слово! — произнес Дима со всей возможной искренностью и выждал, прислушиваясь. — Ну, честное слово, время какое-то такое… Смешно за что-нибудь всерьез браться — месяц до армии! Меня два года будут укладывать баиньки в детское время. Сейчас пользоваться надо. Вот и мама говорит…
На той стороне мать у зеркала жевала губами, размазывая помаду, она бросила сразу, почти автоматически:
— Что я говорила? Ничего не говорила! Отца слушай! Он дурному не научит.
— Да чем пользоваться-то? — снова начал закипать отец. — Ты заработай сначала, потом пользуйся! У нас в семье так было! Твой дедушка в шестьдесят, больной, после операции, поднимался по стремянке на крышу, не держась, перед собой вот так вот лист жести нес, — расставил руки, показывая (хотя Дима все равно видеть не мог), как дедушка Кузьма поднимал жесть. — Он и умер-то во время работы — крышу крыл. Потому что люди просили, лучшего мастера сыскать нельзя было. Всю жизнь до последней минуты работал! А ты — пользоваться!