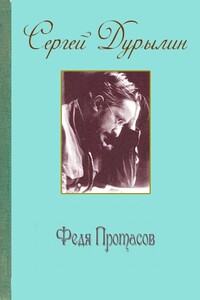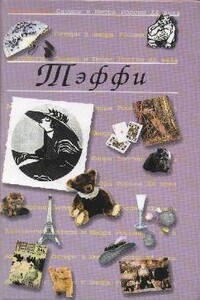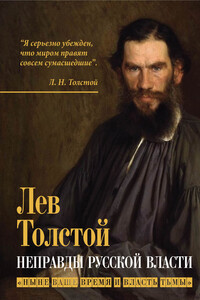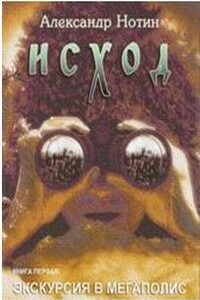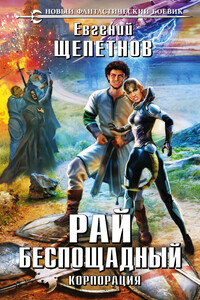Рассказ
Было совсем тихо. За спиной далеко шумел город, шумела нестройная, огромная и непонятная жизнь, а здесь, в стенах богадельни, было тихо, как перед дождем, чирикали воробьи, купаясь в красноватом песке, которым был густо усыпан двор богадельни, где-то под крышей ворковали голуби, да изредка из-за густой зелени маленького садика, густо поросшего желтыми акациями и сиренью, доносился монотонный, незвучный, старческий шепот… Это говорили старики, жившие в богадельне.
После полуденного обеда, отдохнув часик в постелях, когда спадал жар, они медленными, неслышными шагами собирались из большого каменного корпуса в сад, и там, под кустами сирени и акаций, вели беззвучные, тихие речи о прожитой жизни, которая была где-то далеко за стенами богадельни, которая давно ушла от них, оставив их здесь больными, скучными и никому не нужными, о милых и дорогих людях, которые умерли, и о всем, что когда-то заставляло их жить, волноваться, любить и страдать, а теперь невозвратно ушло от них, оставив лишь чистые морщины на их лицах и беспомощные, старческие слезы которые часто катились из их глаз…
Старики любили иногда, собравшись около грамотея в оловянных очках, послушать запоздалые новости из прошлогодней газеты, и тогда они пускались в политику, решая мудреные вопрос, за нас «англичанка» или по-прежнему, хоть и умерла, а все делает нам всякие пакости. Старики не любили, когда в газете говорилось о школах или библиотеках, которых было мало, но, когда речь шла о новом вооружении германской армии или о том, что генерал такой-то сказал там-то несколько угрожающих слов по адресу такого-то королевства, или что мсьё такой-то выдумал такой-то непроницаемый панцирь, – они решали, долго и серьезно, сложный политический вопрос: может ли из этого выйти война или мир. Они привыкли так решать все и всегда: они были когда-то солдатами, и так прошла их жизнь, мучительная и тупая, и все они ждали смерти, конца, в стенах военной богадельни, где каждый царский день их выстраивали в общей столовой, куда приходил старичок генерал, их начальник, и разбитым, старческим голосом кричал: «С праздником, ребята!», а они отвечали такими же старческими и разбитыми голосами: «Здравия желаем, в<аше> п<ревосходительство>!»
Нередко, после чтения газеты, один из стариков вскакивал неловко и торопливо со скамьи и палкой принимался чертить на песке план какого-нибудь бастиона или траншеи, где он сидел, поджидая «турка», сидел с сотней других, которые давно уже истлели зачем-то в неведомых полях далекого Востока… И было странно видеть и слышать, как старый человек, с добрым, кротким лицом, под ясным небом с светлым солнцем, говорил о крови и войне, о сотнях убитых и тысячах раненых, об ужасе смерти, когда кругом чирикали воробьи, ворковали голуби, и было тихо, тихо… И казалось, что старик рассказывает старую, длинную, страшную сказку, и все то, о чем он говорит, – эти груды тел, и свист пуль, и кровавый призрак смерти, который рыщет дни и ночи над прекрасной страной, отыскивая новые и новые жертвы, и эта кровь, и эти стоны – все это было когда-то давно-давно, в незапамятные времена, а теперь есть только ясное небо, солнце, светлая и прекрасная жизнь, широкие зеленеющие поля и вечная, светлая правда любви и счастья… Но замолкал один старик, начинал другой, за ним – третий… – и все тянулась та же страшная сказка, и не было видно ее конца – только одни названия сменялись другими: турки – венгерцами, венгерцы – англичанами, и опять турками, а те – поляками, бухарцами, и опять, и опять турками, – и не было конца этой сказке…