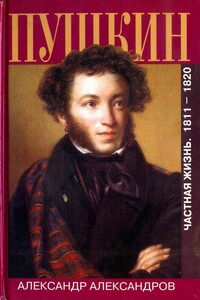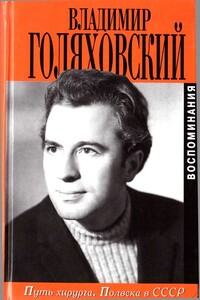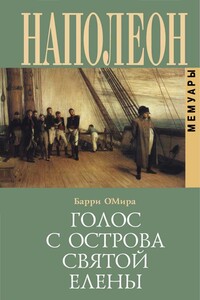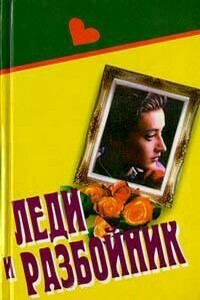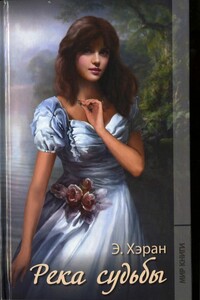Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы назвать как-то более скромно — «жестокой». Но жестокость в истории при всей ее отвратительности не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело — в значительной степени — тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени.
Часть этой работы (детство до 1937 года — календарного, а не символического) и первый вариант этого «Вступления» я написал в 1980 году, когда ни о каком Горбачеве и ни о какой перестройке и речи как будто быть не могло. «Кающийся антисталинист» (это не ругательная кличка, а самоопределение) Александр Зиновьев предрекал брежневщине чуть ли не тысячелетнее царство. Я понимал, что этого не может быть, что брежневщина — эта «сталинщина с человеческим лицом» — сама себя съест, но в том, что это окончится благополучным исходом, сомневался и я (это и теперь еще не ясно). Но не исключал я и того, что просто так же как живем — организованными, якобы стройными рядами, по-прежнему лениво изображая из себя энтузиастов (точнее, не противясь тому, что нас лениво выдают за энтузиастов), мы и забредем в пропасть. В душе, конечно, теплилась надежда, но держалась она не на логике, а на вере в витализм народа и его истории. Не мог я представить себе, что все это вдруг может взять и кончиться — все, во что вложили себя Петр Первый и Александр Второй, Сперанский и Столыпин, Пушкин и Блок, Толстой и Достоевский, — все, что за каждым и в каждом из нас. Да и наши собственные биографии — весь наш путь из прострации к реальности, от ностальгической романтики интернационализма и мировой революции (плод чьего-то беспардонного и неграмотного идеализма, привлекавший простотой и отвлеченностью тех, кому после 1917 года все равно уже некуда было податься) к ощущению вечности и родины, все наши бессильные, но просвещающие прозрения и открытия, «все (выражение А. И. Солженицына) взрывы нашего несогласия», все старания так или иначе восстановить исторические связи — не мог я поверить, чтоб это все не имело ни смысла, ни развития. Огромный — не смотря ни на что — духовный и интеллектуальный потенциал не мог же быть дан этой стране просто так, на выброс.
Но, конечно, это было чувство, желание надежда и вера, но не знание. Вера эта теплилась во мне и в тревожные предзимние дни 1990 года, теплится и теперь, в мае 1991-го. Но ни в уверенность, ни в знание она не превратилась. Ибо и теперь, как в 1980-м, я знаю, что время упущено и выхода не видно. Принято обвинять в этом Горбачева, и он действительно часто тормозит попытки наверстать время, но в целом это последний раз произошло задолго до него — еще при Хрущеве. Горбачев только мог попытаться более или менее робко выйти из этой теоретически безвыходной ситуации, в которую не заводил, а попал вместе со всеми. Возможность такой ситуации предопределил Ленин, на бешеной скорости устремил к ней страну Сталин, упустил время сравнительно безболезненно ее предотвратить Хрущев (который к тому же усугубил безвыходность, втянув страну в абсолютно ненужную ей и непосильную глобальную политику), а утвердила ее в качестве незыблемого закона жизни, исходя из принципа: «После нас — хоть потоп!» — жовиальная брежневщина.