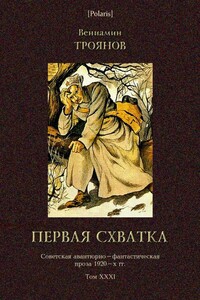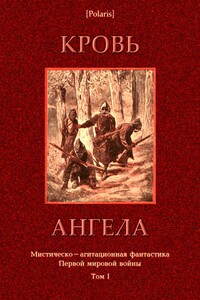I
— Вот, изволите ли видеть, — в раздражении сказал мне командир второй роты. — Я его послал на батарею, чтобы он передал мое поручение, а он встретился там с каким-то офицером, два часа провел с ним в беседе о взрывчатых веществах и, только уходя, вспомнил о моем поручении. Помилуй Бог, это не офицер, а одно недоразумение!
Он сердито бросил окурок папиросы и придавил его ногой. Я засмеялся.
— Так оно и есть, Егор Степанович, — ответил я. — Заметьте, что он приват-доцент, готовится к кафедре и при этом химик.
— Ах, черт его дери! — сердито буркнул капитан. — Здесь нужны не химики, а простые исполнительные офицеры. Вы ему, пожалуйста, внушите это, голубчик.
— Слушаю, только вряд ли он меня даже расслышит.
— Ну, повлияйте; держите его построже; гоняйте чаще.
— Слушаю, — повторил я и пошел к своему взводу.
Разговор касался прапорщика запаса, Павла Дмитриевича Тригонова. Я был поручиком, командовал взводом, числился кандидатом в ротные, а Тригонов был у меня младшим офицером. Правда, он не был военный, даже по внешнему виду: маленького роста, близорукий, несмотря даже на очки, с головой, ушедшей в приподнятые плечи, с жиденькими волосами на бороде и усах, с небольшой лысиной, хотя ему было всего 27 лет, и нежными белыми руками. Серая солдатская шинель висела на нем больничным халатом, шашка то путалась между ногами спереди, то была сдвинута совсем назад, папаха налезала совсем на уши. Перед нами он всегда словно стеснялся, а если нужно было командовать или разговаривать с солдатами, то он, видимо, чувствовал себя совсем несчастным; поправлял очки, кашлял, говорил каждому рядовому «вы» и словно подыскивал слова.
Занимался он беспрерывно, но все не военным делом. То у него в руках записная книжка, и он что-то вычисляет, исписывая ее странички, то книга, которую он читает с такой жадностью, как гимназист Шерлока Холмса, а если не пишет и не читает, то сидит, съежившись в комок, и глаза его рассеянно блуждают или сосредоточенно смотрят в одну точку, а он, перебирая нежными пальцами свою редкую бородку, так погружается в свои думы, что его надо было окликнуть два-три раза прежде, чем он придет в себя. Солдаты любили его по своему, но, как начальство, не признавали вовсе и, понятно, унтер-офицер имел в глазах их гораздо большее значение. Он был и храбр, но по-своему; вернее, храбрость его была от рассеянности и от сосредоточенных мыслей. Однажды, когда нас буквально засыпали шрапнелью и снарядами и мы сидели в окопах, не смея высунуть носа, он, погруженный в свои мысли, одиноко сидел на совершенно открытом месте под деревом. Когда адская стрельба стихла и мы вылезли из окопов, то с удивлением увидали его спокойно сидящим с записной книжкой и карандашом в руке. Я подбежал к нему и окликнул: