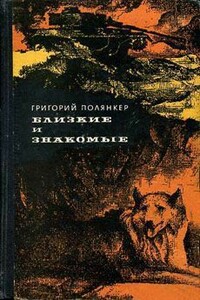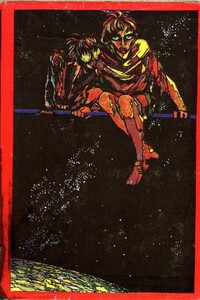Мать, Валя (как называл ее наедине, а на людях — мам или мамка), Валентина, Валентина Петрова, лет сорока, невысокая, чуть высохшая (совсем на тебе мяса нет, говорила мать, бабка Юркина, а сама умерла), раскосые глаза, сильно вдавленные, нос, как на иконах, удлинен, рот — тонкая нить и обильные темные волосы, которые могут кипеть или струиться, но сейчас туго стянуты в жирный хвост за спиной. Хвост доходит до поясницы, все расширяясь. Когда волосы распущены, сами собой разделяясь на длинные, мешающиеся острые пряди, мама совсем походила на чудесную Медузу Горгону. Сказки о Медузе Юрка знал.
Сын — Юрка, шестнадцати лет, длинный, костистый, с крупными кулаками, странными на тонких, худых руках, будто не совсем отсюда; узкие, в мать, глаза, но волосы посветлее и гладко, коротко остриженные, и те же нос и плотно, упрямо сжатый рот. Они вообще очень похожи. Но сейчас его рот занят, жует, равномерно раскрываясь. За их круглым, у окна, столом, на котором завтра будет стоять гроб. Юрка ест черный хлеб, запивая козьим молоком. Это тяжелое лакомство — из любимых.
— Спит он? — спрашивает Юрка, отрываясь от своего занятия.
Она и пожимает плечами, и кивает, так что можно принять и за согласие, и за «не знаю уже», присаживаясь боком напротив, подпирая кулаком щеку, моргая на молоко, спрашивала:
— Ну, как на этот раз?
— Все равно горчит. Вы бы их, мама, гнали куда-нибудь подальше, к лесу. Там трава посвежее. А здесь — одна помойка, и трава от этого горькая.
— Вот бы ты и гнал.
— Я не могу, когда?
— Конечно. Когда у тебя одни гулянки.
Он усмехается, жуя.
— Опять дрался?
— Нет, это старая, — трогает рукой с хлебом ссадину на скуле.
— Все не угомонитесь. Из-за Томки, небось, опять?
Не отвечая, смотрит смеющимися косыми глазами. Лес, а точнее — роща, в пятнадцати минутах хода от ворот, за домами не виден.
Юрка прав. Через забор, между их участком и соседской, городского вида, пятиэтажкой, огромная помойка, которую здесь зовут свалкой; с трех сторон — заборы, с четвертой, уличной, — вход свободный. Банками, бутылками, пакетами, рваной, комканой бумагой с объедками выплескивается на улицу, лижет ее, как прибой. Две их козы, на длинной, одной на двоих, веревке, трутся у забора, подбираясь к лакомствам. Да и не только возле нее, но и подальше, и далеко, трава все равно горькая; горечь идет по земле, распространяется. Потому что земля все впитывает, а потом отдает, переработав, наверх.
— Вот попомни меня, — пристает мать, — плохо все это кончится.
— Так ведь и так уже.
— Правда, — соглашается она, вспомнив. — Поможешь? (взглядывая).